Мой друг, ленинградский историк литературы Цезарь Вольпе, с которым я сблизился, работая в Детиздате, предложил мне, пока окончательно не выяснилось с ополчением, перебраться к нему в дом у Красных ворот, где он жил, приезжая в Москву — чтобы мне не оставаться в полном одиночестве. Я не мог тогда подумать, что этот наш разговор будет последним в жизни. После войны я узнал, что Вольпе, вернувшись в Ленинград, зимой, во время блокады города немцами, решился на безумный шаг: ушел один по льду замерзшего Ладожского озера — и исчез бесследно.
Но перебираться к Цезарю не понадобилось: чуть ли не в тот же день мне позвонил Денисов, заместитель директора Художественного института, и сказал, что завтра, в четверг 6 июля, нужно явиться к 8 утра в здание школы на Новой Башиловке, у стадиона «Динамо», и оттуда уходить на фронт. Я положил в рюкзак немного белья, бумагу и карандаш и явился в 8 часов в школу на Новой Башиловке. Там было полно народу. Очень скоро обнаружилось, что из всего профессорско — преподавательского состава Художественного института явился я один — и со мной тридцать студентов старших курсов и дипломников. Из хозяйственного персонала института явился пожилой бригадир натурщиков Мещерин. Пламенные ораторы, так пылко призывавшие записываться в ополчение и записавшиеся первыми, не явились: они каким‑то удивительно ловким (и даже изящным) манером растворились в воздухе и испарились. Студенты отнеслись к этому необыкновенному «явлению природы» без всякого уважения: не стесняясь многочисленных посторонних, высказались по поводу этого громогласно и весьма неизящно. Но Горощенко, Дурыкин и прочие, хоть и оказались презренными обманщиками и трусами, вероятно, полагали, что поступают вполне честно: они ведь в своих речах вовсе не призывали уходить в ополчение, а призывали записываться в него! И записались же, все видели! А может быть, Денисов до них не дозвонился (включая себя самого)? Никакой самый злобный и изобретательный враг не мог бы придумать такую низменную и позорную дискредитацию коммунистической партии, какую с таким необыкновенным успехом устроили почтенные партийные руководители Московского художественного института!
Позже я узнал, что партийным руководством института была спешно организована «плакатная мастерская», якобы насущно необходимая в интересах обороны, в которую все оно, руководство, и вошло, тем самым избавившись от ополчения. Позже, они первыми, бросив институт, уехали в эвакуацию, в Самарканд, о чем пойдет речь дальше.
А. Д. Чегодаев — Н. М. Чегодаевой в Пензу12 июля 1941 г.
Наташенька и Машукушка, милые, любимые, я до сих пор ничего не знаю о вас, кроме того, что было в телеграмме — что доехали благополучно. Очень хочу знать все, что вы делаете, здоровы ли, все ли у вас хорошо. Но узнать сумею еще только через несколько дней. Меня сейчас, вместе со всем московским ополчением, послали на какой‑то срок обучаться, и я с 6–го числа, с утра, только один раз был дома, и письма еще не было. Сейчас я (на несколько дней) в лагере — в чудесном месте под Москвою, в лесу, около речки. Потом вернут снова в Москву. Я не один — тут вместе со мною человек 25 моих же студентов из Художественного института, так что они обо мне очень трогательно заботятся. Обо мне беспокоиться совершенно не нужно — все это имеет вполне мирный и размеренно — спокойный характер. Меня огорчает только то, что сюда нельзя писать — у леса нет адреса! Поэтому письма нужно все посылать домой, в Плотников пер., — потом прочту все сразу. Я до сегодняшнего дня не мог написать, — дальше буду писать при всякой малейшей возможности.
Когда я был в городе, 9–го числа, я в последнюю минуту только узнал пензенский адрес, но и то не знаю, верный ли. Буду надеяться, что дойдет. Мама должна была 10–го уехать вместе с Катей куда‑то на Урал. Папа пока в Москве. Лазаревы на даче — где‑то около Муранова. Черняки должны были 10–го уехать все в Новосибирск (Елизавета Борисовна позвонила удачно как раз в ту минуту, когда я забежал домой). Виктор Никитич 9–го явился ко мне в казарму. Он очень трогателен, также как Александр Борисович и Татьяна Борисовна[15]. Мама целует вас обеих крепко — крепко. Она очень обо всех беспокоится. Из музея все добудет Вера Николаевна и переправит тебе через А. Б. Целую вас обеих миллион миллионов раз и очень без вас скучаю. Мне нужно только одно: чтобы вам было хорошо, Наташенька и Машенька милые. А.
13 июля 1941 г.
Наташенька и Машукушка, милые, любимые. Очень без вас скучаю и беспокоюсь, как вы доехали и как живете. Я пробуду в лесном лагере еще несколько дней и не скоро еще узнаю что‑нибудь про вас. У меня все в порядке — я загорел, немного похудел — что всегда для меня к лучшему, и как мне кажется, вид у меня очень хороший. Воздух тут такой, что от одного его человек должен поправиться. Кругом очень хороший народ — мои и лазаревские студенты из института, — много милых и приятных людей. Единственное, что меня огорчает, — это отсутствие писем. Если бы не это — я был бы совсем доволен такой передышкой в умственном переутомлении последнего времени — хоть физически много трудного. Насколько можно понять, пробудем тут не менее 10 дней.
Все мои дела сейчас в расстройстве: в журналах и в издательстве делать совсем нечего, в обоих вузах — каникулы, дома неуютно, пусто и уныло, мама, наверное, уже уехала. Виктор Никитич на даче, так же как Пименов и Родионов. (Т. е. так было 6–го и 9–го, да вряд ли что‑нибудь изменилось с тех пор.) Так что мои теперешние дела даже кстати. Шура [наша домработница] уехала в деревню, так что уже 5–го я сидел голодный. 4–го, после возвращения с вокзала, я ночевал у Лазаревых — дома было тоскливо. 6–го и 9–го был у мамы (9–го даже два раза), 5–го, 6–го и 9–го — у Александра Борисовича, который был исключительно ласков. В. Н. был у меня 9–го в школе, где мы временно разместились. Только папу я так и не видел, но он, должно быть, из Москвы не уедет, так что буду с ним каждый день видеться. Пишу сейчас в свободную минуту — дежурю и на один час перерыв. Завтра буду писать опять. Целую и люблю вас обеих очень нежно и крепко — крепко. Без вас мне плохо. А.
Мы пробыли на Новой Башиловке два или три дня (не помню). Ко мне туда приезжал отец, взял мою «штатскую» одежду. Нас одели в военную (летнюю) форму и распределили по взводам и отделениям. Наш взвод целиком составился из людей, причастных к Художественному институту. Я вошел в первое отделение взвода. Мы выбрали командиром отделения Мещерина — из уважения к его возрасту (и к его честности). Но впоследствии, в ополчении, он куда- то от нас перешел — я не помню, чтобы он был среди нас все лето и осень. Фактическим командиром отделения стал великан Миша Володин, не слишком одаренный студент- живописец, но человек простосердечный и добрый и с явными организаторскими способностями. Я хорошо знал своих студентов, уже не один год встречался с ними каждую неделю. Вторым (по росту) после Володина был Федя Глебов, тонкий живописец, сводный брат Сергея Михалкова. Дальше, по росту, шли живописцы Плотнов, Рубинский и Вознесенский и скульптор Загорбинин, за ним я (рост 170 сантиметров), а за мной еще два живописца — Вася Нечитайло, в послевоенные годы ставший членом — корреспондентом Академии художеств, и Костя Максимов, сыгравший очень пагубную роль в истории современного китайского искусства, так как еще в сталинские времена (и времена Мао Цзэдуна) был послан в Китай учить китайских художников «сталинскому социалистическому реализму». И выучил! Лишь долго спустя с большим трудом китайцы сумели отправить этот максимовский «социалистический реализм» к черту.
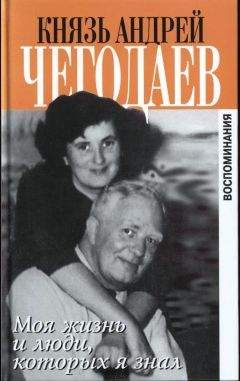
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


