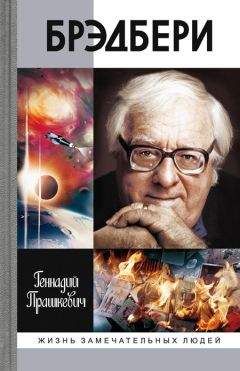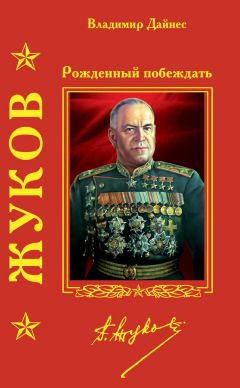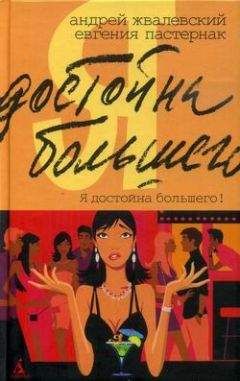Канун Всех Святых.
Странный зловещий праздник.
«Тише-тише! Тихо, неслышно. Скользите, крадитесь.
А зачем? Почему? Чего ради? Где началось, откуда пошло?
“Так вы не знаете? — спрашивает Смерч, восставая из кучи сухой листвы под Праздничным деревом. — Значит, вы совсем-совсем ничего не знаете?”
Было ли это в Древнем Египте, четыре тысячи лет назад, в годовщину великой гибели солнца?
Или — еще за миллион лет до того, у костра пещерного человека?
Или — в Британии друидов, под сссвиссстящие взмахи косы Самайна?
Или — в колдовской стае, мчащейся над средневековой Европой; рой за роем мчались они — ведьмы, колдуны, колдуньи, дьявольское отродье, нечистая сила.
Или — высоко в небе над спящим Парижем, где диковинные твари превращались в мрачный пористый камень и оседали страшными горгульями и химерами на соборе Парижской Богоматери?
Или — в Мексике, на светящихся от свечей кладбищах, полных народу и крохотных сахарных человечков в El Dia Los Muertos — День Мертвых?
Тысячи огненных тыквенных улыбок и вдвое больше тысяч таких же вырезанных ножами глазниц. Они горят, подмигивают, моргают, когда сам Смерч ведет за собой восьмерку маленьких охотников за сластями.
Нет, вообще-то их девять, только куда подевался верный друг Пифкин?
Смерч ведет мальчиков за собой то в вихре взметенной листвы, то в полете за воздушным змеем, всё выше, выше в темное небо, на ведьмином помеле — чтобы выведать тайну Праздничного дерева, тайну кануна Всех Святых…»
26
Восемь мальчишек ловкими, можно сказать, великолепными прыжками преодолевают цветочные бордюры, перила, живые изгороди, кусты и приземляются на газоне, накрахмаленном морозцем. На всем скаку, на бегу мальчики заворачиваются в простыни, или поправляют наспех нацепленные маски, или натягивают диковинные, как шляпки невиданных грибов, шляпы и парики, и орут во все горло вместе с ветром, толкающим их в спину, так что несутся еще быстрее, еще быстрее — во всю прыть, ох, какой славный ветер, ах ты! — выругав страшным мальчишечьим проклятием маску за то, что она съехала, или зацепилась за ухо, или закрыла нос, сразу заполнившись запахом марли и клея, горячим, как собачье дыхание.
Потом все восемь мальчишек сталкиваются на перекрестке.
— А вот и я — Ведьма!
— А я — Обезьяночеловек!
— А я — Скелет! — кричит Том.
— А я — Нищий!
— А я — Горгулья!
— А я — мистер Смерть!
Ночной фонарь на перекрестке раскачивается, гудя как соборный колокол.
Доски уличного тротуара вдруг превращаются в доски странного пьяного корабля, тревожно, даже страшно уходящего из-под ног.
Деревья шумят, вновь и вновь налетает ветер.
А под каждой страшной маской — живой мальчишка.
27
Детство — не от рожденья до возраста, когда ребенок,
Став взрослым, бросает свои игрушки.
Детство — это царство, где никто не умирает,
Никто из близких. Отдаленные родственники, конечно,
Умирают, те, кого не видят или видят редко,
Те, что дарят конфеты в красивых коробках, перочинный нож,
И исчезают, и как будто даже не существуют…
Детство — царство, где никто не умирает,
Никто из близких; матери и отцы не умирают,
И если вы скажете: «Зачем ты меня так часто целуешь?» —
Или: «Перестань, пожалуйста, стучать по столу наперстком!» —
Завтра или послезавтра, когда вы наиграетесь,
Еще будет время сказать:
«Прости меня, мама!»
Стать взрослым — значит сидеть за столом с людьми,
Которые умерли, молчат и не слышат.
И не пьют свой чай, хотя и говорили часто, что это их любимый напиток.
Сбегайте на погреб, достаньте последнюю банку малины, и она их не соблазнит.
Польстите им, спросите, о чем они когда-то беседовали
С епископом, с попечителем бедных или с миссис Мэйсон, —
И это их не заинтересует.
Кричите на них, побагровев: «Встаньте!»
Встряхните их хорошенько за окоченелые плечи, завопите на них —
Они не испугаются, не смутятся
И повалятся назад в кресла.
Ваш чай остыл.
Вы пьете его стоя
И покидаете дом.149
28
Редактору рукопись понравилась.
Но он чувствовал некую неравновесность текста.
Там — слишком длинные абзацы, а там — слишком короткие.
А там ни с того ни с сего какой-то седой моралист вдруг начинал грозить пальцем или, наоборот, — злобные ведьмы становились слишком уж кроткими.
«Побойтесь Бога, вспомните свою прабабушку, Рей!»
«Метлы в небе летели теперь так густо, что на небе не осталось ни облачка, не осталось места даже клочку тумана, не говоря уж о мальчишках. Образовалась невиданная дорожная пробка из метелочного транспорта; можно было подумать, что все леса на земле с гулом встряхнулись, сбросили ветки и, шаря по осенним полям, срезали под корень и обматывали удавками все колосья, из которых могли получиться веники, метлы, выбивалки, пучки розог, — и взлетали прямо в небо. Со всего света слетелись шесты, на которых натягивали веревки, чтобы вешать белье на задних дворах. А с ними пучки травы, и охапки сена, и колючие ветки — чтобы разогнать стада облачных овец, начистить до блеска звезды, напасть на мальчишек…»150
И все это свистит, ревет.
Бесконечные ужасные прайды!
Ужасные бешеные стремнины летящих чудищ!
Вздыбленные воплощения зла, подпорченных добродетелей, совращенных святых, заблудших гордецов, самолюбий, лопнувших, как проколотые пузыри. Вон скачут какие-то грязные свиньи, а за ними — лохматые черти в козлином облике, а на дальней стене — ужасные отродья Сатаны, свистя, на ходу сбрасывают страшные рога, тут же отращивая взамен них усы и бороды.
Все новые и новые стаи чудищ идут на приступ.
Здесь драконы, норовящие проглотить улепетывающих детишек, киты, заглатывающие пророка Иону, колесницы, битком набитые черепами. Акробаты, воздушные гимнасты, свиньи с арфами, поросята с флейтами-пикколо, собаки с волынками, даже дева с рыбьим хвостом. Откуда ни возьмись, прилетел белый сфинкс, сбросил крылья, стал наполовину женщиной, наполовину львом и улегся подремать на долгие века под гулкими колоколами.
— Ой, а это кто? — испуганно крикнул Том.
И услышал негромкий ответ:
— Это Грехи, ребятки!
— А вон там, смотрите, смотрите! Там ползет Угрызение Совести!
29
Как же спасти захваченного чудищами верного друга Пифкина?