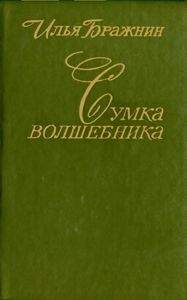Наука видеть
Я уже имел случай говорить, что работа писателя над любым его произведением начинается задолго до того, как он сел за письменный стол. Если эта необходимая предварительная работа не проделана, то можно сидеть за столом сутки напролёт, годы, целую жизнь и всё же ничего путного так и не сделать.
Многое, очень многое предшествует непосредственному творческому процессу, самому написанию, и прежде всего, конечно, видение. Материалом писателю служит весь зримый ему (и не только зримый) мир. И нужно уметь видеть этот предстоящий нам мир во всей его совокупности и во всём своеобразии. Казалось бы, этому не нужно учиться: каждый нормальный человек умеет пользоваться своими глазами. И всё же, это не совсем так. Умению видеть вещи нужно учиться. Мы часто просто не умеем видеть вещи. Мы слепы разной степенью и разными видами слепоты.
На сетчатке нашего глаза есть так называемое слепое пятно. Это — участок сетчатки, нечувствительный к световым лучам. Когда изображение предмета падает на этот именно участок сетчатки, мы не видим предмета, к которому обращён открытый глаз.
Случается, что в известные минуты весь наш зрительный аппарат является сплошным слепым пятном. Человек смотрит раскрытыми глазами на вещи и не видит их. Такое состояние известно каждому и не однажды описано в литературе.
Вот две строки из романа «Война и мир» Л. Толстого, взятые из шестьдесят шестой главы четвёртой части, описывающей события, которые последовали за получением в семье известия о смерти Пети. «Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что-то. Наташа не видела, не слышала её».
Вспомните маленький комический казус с гоголевским городничим в первом действии «Ревизора». Перепуганный, взволнованный, выведенный из обычного равновесия известием о приезде предполагаемого ревизора, городничий мечется, отдавая торопливые распоряжения и одеваясь на ходу. «О, ох, хо, хо-х! — горестно восклицает он. — Грешен, во многом грешен». (Берёт вместо шляпы футляр.) И дальше: «О, боже мой, боже мой! Едем, Пётр Иванович!» (Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр. )
Ослеплённый страхом, городничий не видит то, что держит перед глазами, и только когда частный пристав напоминает: «Антон Антонович, это коробка, а не шляпа», городничий наконец увидел коробку.
Над этим свойством не видеть окружающие вещи в быту много и часто подшучивают. Создалось даже ходячее нарицательное понятие человека, не видящего окружающих предметов. Героя комических недоразумений, вечно путающего свои и чужие вещи, надевающего не те галоши или отправляющегося на прогулку в знойный день с дождевым зонтом, именуют «рассеянным профессором». В сказке Маршака «Рассеянный с улицы Бассейной» герой
В рукава просунул руки,
Оказалось — это брюки.
Все эти литературные свидетельства слепоты и из области комического, и из области трагического — не простая выдумка. Явление это бытует, и довольно прочно, в нашей повседневности. Выражения «ослеплённый страхом», «ослеплённый горем», «ослеплённый гневом» вполне точны. Под влиянием известных внутренних психологических движений — горя (Наташа Ростова), страха (городничий), задумчивости (Рассеянный) человек слепнет, перестаёт воспринимать окружающее.
Но вот более стойкий и более страшный рефлекс слепоты, чем мгновенная и кратковременная слепота под влиянием аффекта, — это слепота привычки.
Привычка ослепляет нас не на мгновение, а иной раз на годы, на целую жизнь. Так же как мы целыми днями, сидя под стенными часами, не замечаем их тиканья, так же проходим мы мимо иных вещей десятки и сотни раз, не замечая их, не видя их. Мы смотрим на них и иногда даже физически видим их, но не отмечаем в нашем сознании их своеобразие. Они привычны, как тиканье часов, и надо, чтобы случилось что-то выбивающее нас из колеи привычных представлений, чтобы мы вдруг и каким-то толчком различили вещь, увидели в её своеобразии и наделили её, наконец, теми качествами и свойствами, которые ей присущи и которых мы до той поры не замечали, не видели.
Мы не замечаем, не видим дома, в котором живём десятилетия; не примечаем рисунка стакана, который каждый день по нескольку раз держим в руках; не замечаем в картине, пять лет висящей перед глазами, ничего, кроме деталей, замеченных в первый раз, когда мы её увидели; не замечаем особых свойств близких нам людей, с которыми живём годами. Они раз и навсегда попали в нашем сознании в проклятое «слепое пятно», и они сами превратились для нас в мутное пятно, в вещи, наделённые раз навсегда ограниченным и узким кругом свойств, далеко не определяющих вещь или человека целиком. Это окостенение окружающего мира, которое тем сильней, чем ограниченней человек, чем притупленней его сознание, чем сильней зрительное рутинёрство, обедняет наши представления, суживает их круг, потому что привычка видеть вещи в раз навсегда ограниченных качествах переносится на новые предметы. Это становится манерой видеть окружающее, манерой, с которой каждый, кто смотрит на мир не как на закостенелый, мертвенный пейзаж, а как на источник живых ощущений, познавании, обогащающих и обновляющих творческую практику, должен бороться самым свирепым образом. Эта борьба за качество видения, в конечном счёте, в переводе на творческую практику писателя есть борьба за качество читательского восприятия. Оно, это восприятие, будет тем свежей, полней, богаче, чем свежей, полней, богаче был первоисточник читательского восприятия — авторское видение.
«Произведение литератора, — говорит Горький в «Письмах начинающим литераторам», — лишь тогда более или менее сильно действует на читателя, когда читатель видит всё то, что показывает ему литератор...» Естественно, что читатель тем больше и лучше увидит, чем больше и лучше увидит (и покажет) писатель.
Увы, не всегда удаётся показать увиденное так, чтобы оно было «зримо, вещно, грубо». Между видением и воплощением виденного весьма часты резкие противоречия. Особенно резки и приметны эти противоречия У авторов малоопытных. Как часто в содеянном начинающим писателем, особенно поэтом, фигурируют люди, вещи, события, явления, очень далёкие автору и мало ему ведомые. В то же время мир людей и вещей, окружающих его повседневно, выпадает из поля авторского зрения. Пишет человек о звёздах, о манящих далях, о джунглях, об океанских солёных просторах, а о своём цехе, в котором работает целые дни, о своём соседе по ставку, столу, квартире почему-то умалчивает.
На первый взгляд это кажется трудно объяснимым. Естественней, казалось бы, брать то, что под рукой, вместо того чтобы тянуться с натугой за далеко лежащим; естественней, казалось бы, писать о том, что отлично и во всех подробностях знаешь, чем о вещах, которые менее известны, представления о которых и смутны, и книжны, и неполны. Где же корни этого неестественного, казалось бы, обращения материала?