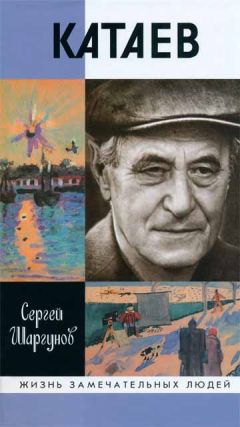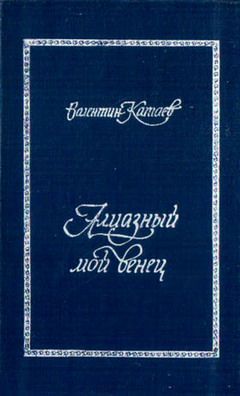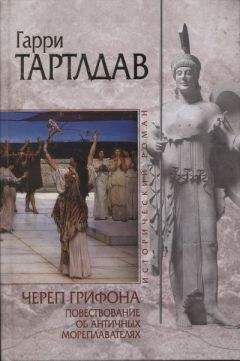С оценкой Маяковского Катаев был совершенно не согласен, критику не принял, и «литгазетный» очерк требует отдельного разговора. По распространенному мнению, которое высказывал, в частности, Варлам Шаламов, Маяковский просматривается в готовом писать на любые темы халтурщике Никифоре Ляписе-Трубецком из «Двенадцати стульев», авторе поэмы «О хлебе, качестве продукции и о любимой», посвященной Хине Члек (то есть Лиле Брик). Поэт роман читал, знал и о катаевском патронаже над романом. Специалисты находят скрытые пародии на «ангажированную халтуру» Маяковского и на других страницах романа, а эпизод с Никифором, который пытается сочинительствовать на морскую тему, — прямая отсылка к катаевскому «Ниагарову-журналисту». Одесский и Фельдман предполагают, что Ильф и Петров «не только напоминают читателю о рассказе своего “литературного отца”», но и пародируют поэму «Хорошо», в которой белые уплывают из Севастополя, «узлов полтораста наматывая за день», ведь Маяковский «был некомпетентен в вопросах техники, хотя и любил при случае щегольнуть специальным термином, что очень забавляло знакомых».
Напомню и то, что Маяковский ни разу не одобрил драматургию Катаева. Но, несмотря на ироничное упоминание «Вишневой квадратуры», тот публично похвалил «Баню», назвав ее автора новым Мольером. А вот насколько искренне? Например, по словам Роскина, к драматургии Маяковского он взаимно относился откровенно пренебрежительно. В одной из статей Катаев упоминал, что в пьесах Маяковского «не видели искусства», и тут же как будто в подтверждение этого тезиса приводил цитату из самого Маяковского, называвшего своего «Клопа» «публицистическим» и «тенденциозным».
Итак, бриковское «всё наврано!!» о мемуаре Катаева принять невозможно. Напротив, он был не только памятлив, но и, как правило, щепетилен в восстановлении событий, и если писал, что в коридоре поезда «Красная стрела» Москва — Ленинград Владимир Владимирович читал ему «злейшие эпиграммы» с «железной улыбкой», можно довериться: так и было, и уж по крайней мере поезд их нес. Больше того, пусть Катаев иногда наделял героев мемуаров своим зрением и своей кожей, все же суть их старался передать максимально: посредством образов, красок, ощущений, переданных через мельчайшие, но характернейшие детали — мовизм становился психоаналитическим препаратом, заставлявшим вспомнить всё. Без лишней скромности Катаев называл такой взгляд «пронзительным».
Безусловно, что-то Катаев переиначил — для красного словца. К примеру, в «Алмазном венце» он живописует, как в гастрономе (нарочито ностальгически-поэтично «приврав», что было это «в доме, которого уже давным-давно не существует») присутствовал при эпической закупке Маяковским вина, закусок и сластей, когда туда вошел Мандельштам с женой, они молча поздоровались, а им вслед Маяковский громыхнул знаменитой мандельштамовской строкой: «Россия, Лета, Лорелея». В воспоминаниях Надежды Мандельштам, «у Елисеева» (в Елисеевском магазине) Маяковский «через тогда еще узкую стойку с колбасами» козырнул другой цитатой — «крикнул: “Как аттический солдат, в своего врага влюбленный…” Бедняге уже успели внушить, что у него есть враги — классовые и прочие… Хорошо, что он не потерял способности любить классово чуждых поэтов…». Эта фраза из «Тенниса» Мандельштама, видимо, показалась Катаеву менее эффектной и значимой для судеб героев его мемуаров, чем финал из «Декабриста», или, наоборот, захотелось выставить Маяковского нелепее, чем он был на самом деле.
В 1928 году Катаев переселился в район Сретенки, в Малый Головин, как он полагал, «бедный» переулок.
Первый этаж. «Маленькое окно почти на уровне земли, выходившее во двор извозчичьего трактира». Иногда в комнату заглядывали лошади. «А я люблю на извозчике ездить», — оправдывал это место Катаев. Хотел жить повыше, но послушался жену: выбрали «квадрат дома» — из пяти комнат.
Жилище, как и в Мыльниковом, превратилось в своего рода ночной клуб, с каждым закатом полный посетителей. После одной такой попойки хозяин запомнил и записал за Маяковским: «Ну, товарищи, Олеша уже начал говорить по-французски. Пора расходиться».
В роковой вечер, когда начался телефонный трезвон, Маяковский, стоя рядом с «Катаичем», короткими фразами или кивками показывал, с кем хотел бы видеться, с кем нет. Притом отвергались «общепринятые друзья, товарищи по “Лефу”».
Если пьеса «Клоп» попортила ему немало крови, то «Баня» была встречена «общественностью» еще жестче. «Маяковский написал “Баню” и читал ее у Мейерхольда, на каких-то официальных собраниях, он читал много, в разных местах. Я всюду с ним ходил, слушал его», — рассказывал Катаев.
Началось все за здравие — действительно чтением в фойе театра Всеволода Мейерхольда 23 сентября 1929 года. Кроме коллектива театра были драматурги Николай Эрдман и Михаил Вольпин, а также Зощенко, Бабель, Кирсанов, Олеша. Сам Мейерхольд, по наблюдению Катаева, «элегантно-затрапезный», при обсуждении пьесы назвал ее «крупнейшим событием в истории русского театра», вспомнив Пушкина и Гоголя. Катаев, которого Маяковский в пьесе насмешливо «отрекламировал», словно прижег «бычком», не преминул сравнить автора с Мольером, что подхватил и Мейерхольд: «Я вспомнил о Мольере, и товарищ Катаев — автор “Квадратуры круга”, сегодня явившийся на читку, тоже вспоминает о Мольере». Позднее Катаев уже не без иронии отзывался о «дебатах», «которые, с чьей-то легкой руки, свелись, в общем, к тому, что, слава богу, среди нас наконец появился новый Мольер».
Но дальше возникли многочисленные трудности. Главрепертком начал препятствовать постановке. Маяковского обвиняли в «идеологической враждебности», всевозможных «уклонизмах», клеймили и унижали, мариновали на заседаниях. Одновременно тот же Главрепертком (и его председатель Константин Гандурин) мучил запретами Булгакова, но если Маяковский все-таки вырвался к зрителю, то Булгакову пришлось писать отчаянное письмо в правительство, обернувшееся знаменитым звонком Сталина (через четыре дня после самоубийства Маяковского) и частичным возвращением пространства для работы.
«Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом и его языком, — вспоминал Катаев цензурные камлания декабря 1929-го — января 1930-го. — Маяковский брал меня с собой почти на все читки. По дороге обыкновенно советовался:
— А может быть, читать Оптимистенко без украинского акцента? Как вы думаете?
— Не поможет.
— Все-таки попробую. Чтобы не быть великодержавным шовинистом».