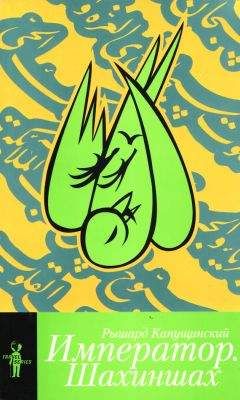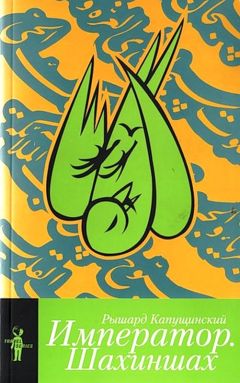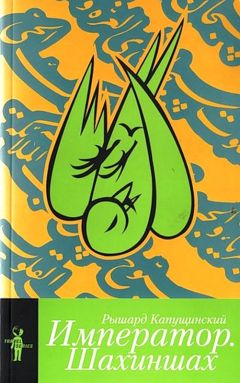Народ как-то существует, ибо он должен существовать. Они же начинают жить все лучше и лучше. Какое-то время им живется спокойно. Их преемники еще бегают по степи, пасут верблюдов, стерегут стада баранов. А затем они подрастут, устремятся в города и начнут борьбу. Что здесь самое существенное? То, что у этих новичков – больше личных амбиций, нежели умения. В результате после каждого переворота страна как бы возвращается к исходному пункту, начинает с нуля, ибо поколение победителей поначалу вынуждено постигать все те азы, которые одолела поверженная генерация. Значит ли это, что свергнутые были более подготовленными и мудрыми? Вовсе нет. Генезис предыдущего поколения идентичен тому, что пришло ему на смену. Какой же выход из этого круга немощи? Только через модернизацию деревни. До той поры, пока существует отсталая деревня, отсталой будет оставаться и страна, хотя бы в ней существовало пять тысяч заводов. До тех пор, пока сын, поселившийся в городе, будет навещать родное село как экзотический край, до той поры народ, к которому он принадлежит, не будет считаться современным.
В спорах, которые велись в комитетах о том, что делать дальше, все были согласны с тем, что прежде всего необходима расплата за все. Начались смертные казни. Они находят какое-то удовольствие в этом занятии. На первых полосах газет появляются фотографии людей с завязанными глазами и парней, которые в них целятся. Долго и подробно излагаются все события. Что приговоренный к смерти сказал перед казнью, как держался, что написал в предсмертном письме. В Европе эти казни вызвали чудовищное возмущение. Однако здесь очень немногие понимали такого рода претензии. Для большинства принцип расплаты был стар, как мир. Это продолжалось с незапамятных времен. Шах правил страной, потом ему отрубали голову, приходил следующий, рубили голову и ему. А как же иначе избавиться от шаха? Ведь по доброй воле он не отречется. Оставить шаха или его людей в живых? Они сразу же начнут сколачивать армию и снова захватят власть. Держать их в тюрьме? Они подкупят охрану и выйдут на свободу, начнут резать тех, которые их победили. В создавшейся ситуации убийство – это как бы естественный жест самосохранения. Мы живем в мире, в котором право трактуется не как инструмент защиты человека, но как орудие уничтожения противника. Да, это звучит жестоко, в этом есть какая-то страшная неумолимая абсолютизация. Аятолла Халхали рассказывал нам, группе журналистов, как после вынесения смертного приговора бывшему премьеру Ховейде он вдруг заподозрил людей из карательного отряда, которым предстояло выполнить приказ, что те могут его отпустить. Поэтому он усадил Ховейду в свою машину. Это происходило ночью, они ехали в автомобиле, разговаривали, аятолла не сказал нам, о чем. Не боялся ли он, что Ховейда сбежит? Нет, ничего такого он не думал. Время шло, Халхали размышлял, в чьи надежные руки он мог бы передать Ховейду. Надежные руки – это значит такие, которые наверняка выполнили бы приговор. Наконец он вспомнил людей из одного комитета возле базара. Доставил туда Ховейду и там его оставил.
Я пытаюсь их понять, но то и дело наталкиваюсь на темное пространство, где начинаю плутать. У них другое отношение к жизни и смерти. Они по-другому реагируют на вид крови. Кровь возбуждает их эмоции, вызывает восхищение, они впадают в какой-то мистический транс, я вижу их оживленные жесты, слышу их возгласы. К моей гостинице подкатил на новой машине владелец соседнего ресторана. Это был прибывший прямо из автосалона прекрасный золотистый «понтиак». Внизу началось оживление, во дворе бились в конвульсиях зарезанные куры. Их кровью люди сначала опрыскивали себя, а потом мазали ею кузов машины. Через минуту она стала алой от крови. Это было крещение «понтиака». Там, где кровь, там давка жаждущих обмазать ею руки. Никто не сумел мне объяснить, зачем это понадобилось.
Несколько часов еженедельно царит поразительная дисциплинированность. Это происходит по пятницам, во время совместной молитвы. Утром на громадную площадь является первый наиболее истовый мусульманин, развертывает коврик и преклоняет колени на его краешке. Вслед за ним приходит следующий и разворачивает свой коврик рядом с первым (хотя вся площадь свободна). Затем появляется новый единоверец, за ним еще один. Вслед за этими тысяча других, а потом – миллион. Раскладывают коврики и становятся на колени. Стоят на коленях в ровных штрафных шеренгах, молча, обратившись лицами в сторону Мекки. Около полудня руководитель пятничной молитвы приступает к ритуалу. Все поднимаются, склонившись в семикратном поклоне, распрямляются, наклон тела до бедер, падение на колени, припадение лицом к земле, сидячая позиция на бедрах, снова лицом к земле. Великолепный, ничем не нарушаемый ритм миллиона тел – это зрелище, неподвластное описанию, а для меня и несколько угрожающее. К счастью, когда молитва заканчивается, шеренги тотчас же начинают распадаться, становится шумно, и возникает приятная, свободная, вносящая разрядку сумятица.
Вскоре в революционном лагере начались споры. Все были против шаха и хотели его убрать, но будущее каждый из спорящих представлял себе по-иному. Часть людей были уверены, что в стране воцарится такая демократия, какую они видели во время пребывания во Франции и Швейцарии. Но именно эти люди в борьбе, которая началась после отъезда шаха, проиграли первыми. Это были интеллигентные, умные, но слабые люди. Они сразу же оказались в парадоксальной ситуации: демократию нельзя навязывать силой, за демократию должно проголосовать большинство, тем временем большинство хотело того, чего жаждал Хомейни: исламской республики. После удаления либералов остались те, которые были за республику. Но и среди них вскоре разгорелась борьба. В этой борьбе жесткая, консервативная линия постепенно одерживала верх над прогрессивной и открытой линией. Я знал людей из первого и второго лагеря, и всякий раз, размышляя о тех, на чьей стороне были мои симпатии, приходил к пессимистическим выводам. Лидером прогрессистов был Бани Садр. Худой, чуть сгорбленный, всегда в рубашке-поло, он ходил, убеждал, постоянно вступал в дискуссию. У него были тысячи идей, он много, слишком много говорил, пускался в бесконечные рассуждения, писал книги усложненным, малодоступным языком. В этих странах интеллигент в политике – это всегда кто-то не на своем месте. У интеллигента переизбыток воображения, его терзают сомнения, он мечется в разные стороны. Какая польза от руководителя, который сам не знает, какой линии придерживаться? Бехешти (представитель твердой линии) никогда так не поступал. Он собирал свой штаб и диктовал инструкцию. Все были благодарны ему, ибо знали, как поступать, что делать. В руках Бехешти находился шиитский аппарат, у Бани Садра были друзья и приверженцы. Оплотом Бани Садра являлась интеллигенция, студенты, муджахедины. Базой Бехешти – готовая к призывам мулл толпа. Было очевидно, что Бани Садру суждено проиграть. Но и Бехешти настигла рука Милостивого и Милосердного.