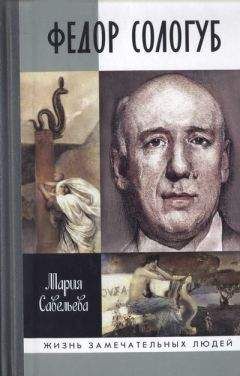Вот мотивы творчества Чехова, вот что дала Чехову дебелая, румяная бабища жизнь. А разве не они же и мотивы первого периода его (Сологуба. — М.П.) литературной деятельности. Разве этими словами Чехова не нарисован фон гениальных полотен Сологуба, его «Тяжелых снов» и «Мелкого беса», произведений, в которых выступает он как реалист с изумительным знанием быта, которое ставит его в ряду таких писателей, как Чехов, Гоголь и Щедрин[731].
Содержание романа действительно предполагало прочтение, при котором фигура Передонова предстает порождением общественной реакции и провинциального мракобесия. Однако конкретно-исторический пласт «Мелкого беса» не исчерпывал ни его проблематики, ни значения. «Видеть в „Мелком бесе“ сатиру на провинциальную жизнь, видеть в Передонове развитие чеховского „человека в футляре“, — предупреждал Иванов-Разумник, — значит совершенно не понимать внутреннего смысла сологубовского романа»[732].
В связи с размышлениями критиков о природе «передоновщины» весьма существенными представляются мысли, высказанные Сологубом в статье «После катастрофы» (1904), написанной по случаю смерти Чехова:
Так уж сложилась наша тусклая, бездарно-мещанская жизнь, что на всех путях стерегут нас чеховские страхи. И что мы ни делаем, куда ни идем, на что ни обращаем наши взоры, — везде мерещится нам страшное, и сердце сжимается опасениями и предчувствиями. <…> Опасение человека в футляре, — «как бы чего не вышло», — не чуждо каждому из нас. И мы боимся, — врагов, да и друзей, чужих и своих, силы и власти, ума и безумия, правды и клеветы, смерти и жизни. Не умеем быть смелыми, не смеем хотеть, стыдимся самих себя и робко прячемся в раковины обычного строя жизни, тупой, ленивой, вялой. Боимся разбить эти раковины, хотя они хрупки, хотя нам в них неловко и тесно. И когда бледная смерть внезапно станет перед нами, мы забываем всю нашу культурность и звереем. Потому что привыкли к страху[733].
Вполне очевидно, что Сологуб услышал в прозе Чехова не только внятный каждому читателю протест против косности быта и пошлости нравов, но прежде всего вопль, порожденный сознанием фатальной несвободы человека и экзистенциальным ужасом перед этой несвободой, — то есть истолковал Чехова (так же, как Толстого и Пушкина) через собственную творческую личность.
Возможно, об этом соединении в «Мелком бесе» «чеховских страхов» («страшно нестрашное») и сологубовского ужаса перед жизнью писал П. Пильский:
Передонов — зеркало, безостановочно и беспрерывно вертящееся мимо всех других, многих бесчисленных, быть может, всех земных душ. В это зеркало поочередно смотрятся все, и все себя видят, ибо оно громадно. И ужас в том, что никто не ужасается, трагедия — в отсутствии для всех трагедий. «Мелкий бес» непревосходим именно потому, что его автор изживает ужас за всех, что здесь он не говорит, а вопиет, что это не слово, а скрежет, не голос, а вопль[734].
Нельзя не отметить, что в сознании современников феномен «передоновщины» беспрепятственно и сразу же встал в один ряд с такими социально-историческими и художественными обобщениями, как «хлестаковщина», «маниловщина», «обломовщина», «карамазовщина» и др., имя главного героя получило статус нарицательного, а сам «Мелкий бес» оказался чрезвычайно точно встроенным в «общий чертеж» русской литературы.
Роман Сологуба выделялся из потока современной ему прозы прежде всего богатой «генетической памятью», о чем свидетельствовали содержащиеся в нем многочисленные цитаты и реминисценции из классических произведений, полемические подтексты и аллюзии на тексты предшественников и современников. Вероятно, по этой причине «Мелкий бес» обрел вневременное звучание и стал своеобразным «мостом», связующим классическую прозу с прозой новейшего времени.
В некрологе, размышляя о значении творчества писателя, М. Слоним заключил:
Смерть Сологуба — большая утрата для русской литературы. Не только потому, что вместе с ним уходит в могилу целый период наших художественных исканий и борьбы. Сологуб был больше чем представителем известного направления. <…>
В Сологубе, прежде всего, замечали его манеру, переходящую в манерность, темный эротизм, с садистскими уклонами, оранжерейно-душную фантастику изощренного воображения, двусмысленную символику его мечтательности. Но забывали или не видели, что этот утонченный эстет и символист обладает в то же время огромной художественной способностью изображения быта, что этот поэт, идущий своими окольными дорогами, отрицающий жизнь, воспевающий смерть, создал замечательную картину убогой провинции и сумел в 90-ые гг. прошлого столетия связать современное ему искусство с оборвавшейся нитью гоголевской традиции. В «Мелком бесе» свыше тридцати лет назад соединил Сологуб реализм описания с «фантастикой быта» и дал потрясающий образ «духовного подполья». Именно в романе о Передонове даны были те элементы современной литературы, которые впоследствии были окончательно утверждены Ремизовым и Замятиным[735].
* * *
Ни одна из попыток прокомментировать художественный замысел «Мелкого беса» не может быть названа окончательной или единственно верной. Роман Сологуба с момента его выхода в свет и до сегодняшнего дня прочитывали и прочитывают на разных «языках» и на разных уровнях (дополняю перечень основных интерпретаций по Т. Венцлове[736] новыми работами): как бытовой социальный роман, продолжающий традицию русской «разоблачительной» прозы (в прижизненной критике в подавляющем большинстве рецензий и откликов)[737]; как пограничное произведение между реализмом и модернизмом[738]; как «неомифологический» текст (символистский роман)[739]; как гротеск в романтическом и модернистском понимании[740]; религиозно-философскую аллегорию гностического толка[741]; полифоническое произведение (в бахтинском смысле), в традиции романов Достоевского[742]; как развертывание мифа о Дионисе[743]; языковой эксперимент[744]; алголагнический роман[745]; «репродукцию» второго закона термодинамики (энтропии, распыления мира) — развертывание мифа «демонов пыли»[746]; трансформацию классического плутовского романа[747]; эзотерический текст — «мистерия души» и «мистерия плоти»[748]; роман, содержание которого составляет ироническое и полемическое изложение истории русской литературы[749], и т. д. и т. п. Вполне очевидно, что к названным прочтениям и углам зрения могут быть добавлены и еще будут добавлены новые и новые.