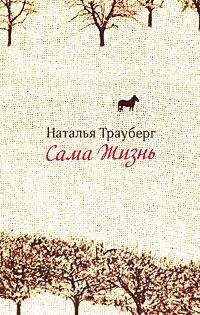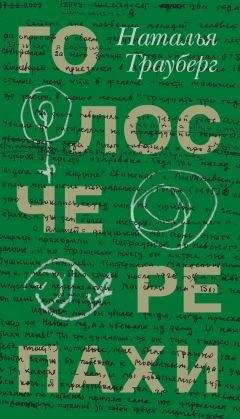–Наталья Леонидовна, в предыдущем нашем раз говоре вырассказали смешную историю про то, как вы допустили оплошность. Вам где-то попалась фраза, что-то вроде «я тебяраскатаю в„креп-сюзетт", и вы, не зная, что crepe suzette - это французский блин со сладким соусом на основе ликера Suze, решили, что речь идет о каком-то сорте шелка. Тоже вещь плоская. Сей час переводчики могут путешествовать, могут погру жаться в материальные реалии других стран. Это очень хорошо, ведь меньше риск сделать ляпсус?
–Конечно! Вскоре после того, как я перевела эту книжку, я с ужасом увидела в кафе этот самый «креп-сюзетт». Но «креп-сюзетт» – это еще ничего. Мой грех, конечно, но я не обязана знать всю французскую кухню. А вот то, что сейчас пишут… Кроме высокого класса есть средний. На самом деле он плохой. Ужас в том, что есть высокий уровень, пусть даже заглаженный, а вот среднего, профессионально-внимательного перевода нет. Мы с коллегами сравниваем это с гнилым мясом. Знаете, в Средние века подпорченное мясо сдабривали всякими травками, чтобы не так пахло. Когда начались Крестовые походы, с Востока тащили мешками все, чем можно присыпать эту гниль, – перец, мускат, кардамон. На это часто похож современный перевод. Сплошные «парни» – при том, что в английском тексте «chap» или «guy» заменяют местоимение «он». Я недавно правила один перевод, сделанный довольно способным мальчиком, у него легкий, живой синтаксис, но лексика – сплошная феня. Классический же вид такого перевода – это жалчайший, рабский синтаксис с насованным перцем. Одни пассивы. Каждая фраза начинается с «но», а если нет – с «и». Здесь ничего сделать нельзя. Это не литература. Но таким образом основательная часть англоязычной словесности не попадает в русскую культуру. Так что, если вам не все равно, не читайте это. Либо читайте по-английски.
–Я думаю, эти книги издаются как раз для тех, кому все равно.
–Да, видимо, так. И все же больно, когда сравниваешь оригинал и перевод, уничтожающий писателя. Поэтому я иногда переписываю чужие переводы. Прошу в издательстве, чтобы мне дали это сделать, -жалко писателя и читателей. Привычной рукой перевожу пассив в актив, ввожу действенный глагол, делаю что-то, чтобы текст хоть как-то дышал.
–Наталья Леонидовна, ваша семья двунационалъна…
–Нет, больше. К моей двунациональности, вполне уже привычной, надо прибавить то, что мои дети считают себя литовцами.
Я имею в виду как раз это. Ваша дочь живет здесь, в Москве, сын – в Вильнюсе. В вашей жизни очень многое связано с Литвой. Мне кажется, имен но вы острее других должны были почувствовать распад СССР. Как вы относитесь к тому, что ваш сын живет теперь в другой стране, а вам нужна виза, чтобы поехать в Литву?
Боже мой, что меня спрашивать? Я же монстр, я не кокетничаю, я на самом деле монстр. Мне так было плохо при советской власти, что я вообще не могу страдать от чего-либо, что ее ослабляет. Разделился СССР – и слава тебе, Господи. Пусть меня убьют за это, могу пострадать за хорошее дело. Расскажу вам притчу- когда был Андропов, я чуть не сошла с ума. В прямом смысле. Возможность советского реванша висела вполне реально. Многие знакомые -Татьяна Великанова, Сергей Ковалев – сидели. Иногда приходило в голову: может, лучше, если и меня поскорее туда же? Там хоть какая-то определенность. Да и 1984 год приближался, тоже не фунт изюма, а его первым предсказал, до Оруэлла, Честертон. И осенью 1983-го, в совершенном отчаянии, я поехала к одному католическому священнику, тайному кардиналу, который теперь явный кардинал. Он сказал -страдать особенно не надо, это ненадолго, все это скоро кончится. Через полтора года пришел Горбачев. И еще он сказал – не надо гневить Бога; сейчас нет жизни, а потом будет просто жизнь. Этот человек -отчасти пророк, мистик, в хорошем смысле слова, мистики ведь бывают разные – такие, знаете, с горящим взором, впадающие в экстаз. Пожалеть их можно, но разделять их восторг не стоит. К Сладкявичюсу я применяю это слово, как и к Честертону и, отчасти, к Вудхаузу. Еще он сказал, что страна разделится – не знаю, Союз или сама Россия. И добавил интересную вещь: Россия, видимо, никогда полностью демократической не будет. Какой-то авторитаризм останется. Но в сравнении с тем, что было, это – жизнь.
Почему вы стали католичкой?
Я не стала. Я была православной с младенчества. Сознательно обратилась после очень большого стресса в шесть лет и вступила в райский период моей жизни. Так что я всегда была верующей, если не считать внутренних кризисов в семнадцать-во-семнадцать лет, не очень серьезных. Потом лет в двадцать восемь у меня случился большой сбой. Я все сильнее чувствовала фальшь, фарисейство. Тогда я познакомилась с реэмигрантками, они мне показались очень нравными, тяжелыми дамами -антисоветскими, что само по себе хорошо, но совсем не евангельскими. Я стала метаться. Но Бог не дремал, я вышла замуж за литовца. Мы познакомились,
и меньше чем через месяц я вышла за него замуж. Мы поехали в Литву. Первое время я очень идеализировала католичество. Я думала, могу ли я ходить в католическую церковь? Оказалось, что могу. Как жена католика (формально католика, он скептик) -могу. И ходила, буквально все время. -Вы не переходили в католичество?
Нет, хотя до Второго Ватиканского собора, который состоялся через несколько лет после нашего брака, это было обязательно при смешанных браках. Но формально я считаюсь в евхаристическом общении с Римским Престолом, потому что вышла за католика, хоть и не практикующего, но прошедшего конфирмацию. Тогда еще были старые ксендзы, которых сейчас мало осталось. Они меня поразили своей мудростью. Потом я поняла, что это мудрость на-ученности. Очень много мне дал отец Станислав Добровольские, поразительный францисканец, совершенно евангельский, очень прославленный в Литве. Казуистика католическая, вообще католическая антропология так тонка, что после «Добротолюбия», ориентированного на монахов, а не на нас, только и успеваешь ахать. Я тогда была прихожанкой отца Всеволода Шпиллера, и он, как ни странно (он не был человеком экуменических воззрений), одобрил меня полностью. Сказал, правда, так: «Вашим библейско-православным летаниям и витаниям очень полезен католический Аристотель» (с ударением на последнем слоге и с открытым «э»). Как-никак, он одобрил то, что я хожу в костел и даже там причащаюсь.
Вы сейчас ходите в храм святого Людовика?
Какой Людовик? Я хожу в православную церковь Успения. Видимо, я вроде героев Бориса Андреевича Успенского – в какой стране ни окажусь, исповедую