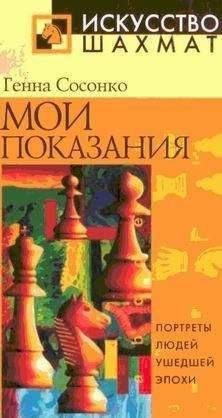Он не зажимался в игре и, раскрываясь, порой проигрывал, но он играл сам и давал играть другим. И его не заботило, что думали другие, он не искал в их глазах оценки позиции на доске, он видел и чувствовал ее так, как чувствовал только он. Здоровье его было отменным, и все слагаемые, определяющие великого шахматиста: фантазия, очень тонкое понимание позиции, ювелирная техника, — присутствовали у него. И все же он никогда не сыграл матча за чемпионский титул, более того, всякий раз останавливался на довольно дальних подступах к нему.
Если отрешиться от постулата Платона «ничто в мире не заслуживает больших усилий» и не подвергать придирчивому анализу смыс-ловское «значит, звезды на небосклоне не были расположены благоприятным образом, и не было ему на роду написано этого» — надо искать причину в чем-то другом. В чем?
Карпов полагает, что тормозом на пути к еще большим успехам явилось то, что Ваганян — игрок настроения. Есть настроение — есть игра, нет настроения — и игра блекнет. К этому могу добавить, что порой причиной проигрыша был переизбыток идей, которые Рафик не мог держать под контролем. Иногда он так увлекался, что забывал жесткую истину: в шахматах, как и в футболе, реальное значение имеют не изящные финты и дриблинг, а забитые голы.
Большинство коллег Ваганяна считают, что если бы он больше занимался шахматами — хотя бы по часу в день, если бы строго соблюдал спортивный режим, если бы был постоянный тренер, поставивший ему дебют, как Фурман Карпову, ну и если бы счастья побольше... На это трудно возразить.
Более дальновидные полагают, что Рафику, совершенно неуправляемому в молодые годы, жившему напропалую, без оглядки, не столь тренер был нужен, как человек, который был бы постоянно рядом, как Бондаревский у Спасского. Если бы сегодняшний Ваганян, с его богатейшим опытом и житейской мудростью, был бы с ним тогдашним, двадцатипятилетним, возможно, и развился бы до конца его выдающийся природный талант. И с этим трудно не согласиться.
Но все-таки главное, думается, в другом. У самого Ваганяна не было этого страстного желания стать не просто одним из лучших, а самым-самым лучшим, подчинить, пусть на время, всё в жизни этим деревянным фигуркам, попытаться взять верхнюю ноту, сделать последнее сверхусилие. Для такого сверхусилия надо было поступиться жизнью. Жизнью, к которой он привык, жизнью, текущей широкой рекой и наполненной не только шахматами, турнирами, поездками, но и встречами с друзьями, застольями, переходящими глубоко в ночь, свиданиями и гулянками, картами и домино, шутками и розыгрышами, — да мало ли еще чем, что составляет нескончаемую круговерть бытия. Он слишком любил радости жизни, чтобы бросить всё только для того, чтобы попытаться навеки запечатлеть себя в ряду апостолов на стене шахматного клуба.
Однажды в первой лиге чемпионата СССР он, обреченный на долгую пассивную защиту, доигрывал тяжелейший эндшпиль. Сделав очередной ход, он подошел к мастеру Владимиру Дорошкевичу. «Дора, — сказал он, — купи вино, хлеб, закуску, не забудь карты: идем в ночь». Он уже смирился с тем, что вечер утекал так бездарно, но ночь, ночь принадлежала ему!
Были неистощимые запасы сил и та беззаботная уверенность, которую дает молодость. И казалось, что так будет всегда. И всё сходило с рук, и всё получалось само собой, без философствования, самоанализа и самопрограммирования, потому что молодость сама по себе запрограммирована на успех. Пословица: «Если бы молодость знала, если бы старость могла» - кажется мне лишенной смысла. Если бы молодость знала, она не была бы молодостью, всегда остающейся в долгу у рассудка, логики и здравого смысла.
В молодые годы Ваганян играл много, очень много. В 1970-м он сыграл больше 120 партий — рекорд по тем временам. Ботвинник, узнав об этом, только осуждающе качал головой: Патриарх советовал играть 60 партий в год, посвящая остальное время подготовке и анализу. Турниры длились тогда по две-три недели, когда и месяц, и Ваганян подолгу не бывал дома, но где бы он ни был, он всегда знал, что его дом - в Ереване.
Он вырос на Востоке, и семья, близкие играли и играют для него большую роль, неизмеримо большую, чем на Запале, где члены семьи, обмениваясь изредка телефонными звонками и поздравительными открытками, собираются вместе разве что на Рождество и семейные праздники. В 1988 году во время Кубка мира в Брюсселе у Ваганяна умер младший и единственный брат, и он не раздумывал ни мгновения, когда организаторы стали осторожно выяснять его планы в смысле продолжения игры в турнире. Провожая его, безутешного, в аэропорт, я понял тогда, что значат для Рафика родные, какое место занимают семья и дом в шкале его жизненных ценностей.
Начиная с юношеских лет, с самых его первых успехов, имя Ваганяна стало известно каждому в Армении - маленькой стране, в истории которой так много трагических, порою кровавых страниц. Быть известным человеком в любой стране почетная, хотя и непростая обязанность, но вдвойне почетна и трудна роль национального героя там, где на тебя с гордостью и любовью устремлены глаза всего народа. В середине 50-х годов, когда советские шахматисты стали регулярно выезжать за границу, в аэропортах разных стран их нередко встречала группа людей, скандирующих только одно имя: «Пе-тро-сян! Пе-тро-сян!» Так армянская диаспора, рассеянная по всему миру, приветствовала свою гордость, своего любимца. Когда Петросян играл матч с Ботвинником, армяне рассыпали на ступенях Театра эстрады землю, привезенную из национальной святыни -Эчмиадзина, а день, когда он завоевал чемпионский титул, стал в республике всенародным праздником.
Но если Петросян был королем Армении, то Ваганян стал ее кронпринцем. Было всё: восторженные встречи в Ереване после каждого выигранного турнира, интервью в газетах и на телевидении, узнавание на улице, раздача автографов, поздравления друзей детства, приемы у отцов города, бесконечные застолья, когда от угощений ломились столы и щедро лился знаменитый армянский коньяк. Гроссмейстеры, бывавшие в те времена в Армении, вспоминают: стоило случайно выясниться, что ты коллега или друг Рафика, как тут же ты сам становился почетным гостем, а об оплате счета в ресторане или кафе не могло быть и речи. Надо ли говорить, что для серьезных занятий шахматами у него времени почти не оставалось.
Ботвинник как-то заметил, что Ваганян играет так, будто до него шахмат не существовало. В этих словах слышится и порицание за нежелание работать, изучать наследие прошлого, — но и удивление естественностью и непредвзятостью мышления. Может быть, поэтому суждения Ваганяна о тех или иных аспектах игры могут быть острыми и нешаблонными. Так, он сказал однажды, что разница между Рети и Нимцовичем заключается в том, что в позиционном плане Рети был больше атакующий игрок, а Нимцович - защитник, и вся его «система» на этом и построена.