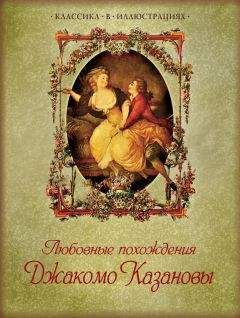Тут-то я и понял, что люди «ещё той эпохи», неважно, белые или красные, вылупились из одного и того же обывательского яйца николаевской России. Именно на них был направлен эпатаж, хоть футуристов, хоть шестидесятников, и реагировали разные мещане на него, что в десятых, что в шестидесятых годах совершенно одинаково. И в Росии и за рубежом. Будь то хоть древний годами Роман Гуль, хоть мой ровесник Никита Струве…
Кстати, что касается Никиты, то наши отношения весьма охладились после следующего эпизода. Однажды он приехал к нам несколько встрёпанный, вынул из портфеля гигантскую пачку листов. Это была корректура солженицынского «ГУЛАГа», которую он, по его словам, «из соображений конспирации» (автор-то ещё «там») не хотел давать новенькой девушке-корректору. Мы с Ветой стали вычитывать.
Когда через пару дней Никита приехал, чтобы забрать готовую часть рукописи, я обратил его внимание на тот факт, что слово «юрисдикция» в этой книге употребляется в несуществующем смысле. Солженицын говорит «юрисдикция», имея в виду судебное заседание: «Юрисдикция началась с опозданием на полчаса» — за точность цитаты не ручаюсь, но что-то очень похожее там было. Когда я заметил, что слово-то употреблено не по назначению, Никита поправил очки, задрал козлиную бородку и произнёс: «Не критиковать надо, а преклоняться!». И уехал. Возмущённый.
А мы долго хохотали, особенно двенадцатилетняя Дина, дружившая с его младшей дочкой Малашей, которая втайне от отца часто посмеивалась вместе с Динкой над его пафосом.
Так что я уже не расчитывал на то, что Струве издаст в «Имке» мою следующую книжку. И когда где-то к 1980 году у меня накопилось достаточно новых стихов, я к нему с этим даже не обратился. С «Посевом» мне тоже уже не хотелось связываться. И вот почему.
В 1979 году я и ещё несколько «раскольников» с шумом вышли из НТС в знак протеста против новой «политической линии». На заседании «руководящего круга» НТС Е. Р. Романов, бывший тогда председателем исполнительного бюро, или, говоря по-советски, «генсеком» НТС, сформулировал ее так: «опираться не на третью эмиграцию, а на здоровые силы в советских верхах». Почти двадцать лет они ещё ждали, пока эти "здоровые силы" в лице М. Горбачёва появятся. Но внимания. как известно, "здоровые силы" на НТС не обратили никакого…
А некто М., человек в НТС новый, бывший еще недавно мелким советским дипработником, вроде бы смывшимся месяцев семь тому назад из Алжира, и попавший во Франкфурт месяц тому назад, но уже ставший членом совета (???), предложил превратить журнал «Грани» из литературного в чисто политический. Очевидным образом, М. рвался в главные редакторы! Читателей у «Граней» бы поубавилось сразу, да и зачем было дублировать «Посев»? Многие заворчали, услышав такое предложение, и Романов тут же — на попятный: останется, мол, журнал литературным, останется.
Тут Тарасова, которой стало противно, отказалась быть главным редактором. Её, правда, уговорили остаться, но ещё года через три она всё же ушла, проработав в журнале более двадцати лет.
Короче говоря, Романов искал союзников там, где по нашему мнению искать их никак не следовало. Мы (эмигранты третьей волны) с этими его «здоровыми силами», естественно, дела иметь не хотели, и я, взяв слово, ёрническим тоном сообщил всем членам «руководящего круга», что теперь-то всяких внедрённых из СССР во Франкфурте заметно прибавится, так вот пусть эти «здоровые внедрённые силы» нас и заменят. «А выступление М. против журнала «Грани» содержит, — сказал я, — несколько фраз, буквально выдернутых из доклада Жданова «О журналах «Звезда» и «Ленинград».
А надо сказать, что я подготовился к выступлению — я ведь, как всегда жил у Тарасовой, которая прекрасно знала, о чем пойдет речь на заседании. Так что доклад Жданова я снял у Тарасовых с книжной полки и нужные цитаты там заранее нашел.
После того, как я процитировал выбранные мною фразы из Жданова, кто-то сбегал в помещение библиотеки и принес, не доверяя моим словам, указанный доклад. Я быстро нашёл в нем то, что нужно, показал Романову и Артёмову, а потом еще и прочел вслух. Это привело к немой сцене. Что было дальше, не знаю: Арик Вернер, Юра Чикарлеев и я ушли с этого совещания, и вообще из НТС. Выйдя на воздух, Юра Чикарлеев сказал, что лучше уж пойти в пивную, чем торчать на заседании и смотреть, как «Романыч» снимет пиджак, наденет его навыворот и окажется в советском кителе с голубыми погонами, которые М. ему, наверное, уже привёз из Москвы…
С издательством «Ардис» я в 1980 году ещё не был знаком, так что не к кому мне было обратиться с моей новой книжкой «Европа-остров». В результате, набор я сделал сам, а типографию мне предложил оплатить Алик Гинзбург (как он выразился, «из шальных гонораров за выступления в США»), на что я с благодарностью согласился. Эта вторая моя книга на западе вышла с обложкой начинавшего тогда художника Ясика Горбаневского и под маркой моего собственного крохотного издательства «Ритм», выпустившего до того несколько книжек разных не публиковавшихся в СССР поэтов. Это были первые книжки стихов Е.Игнатовой, В.Иверни, В.Кривулина, стихи старика К.Померанцева и др
Но я опять сильно нарушил приличную солидную хронологию,
так что придется вернуться назад в 1974 год.
В 74 году в Париж приехал Владимир Максимов. Он поселился на улице Лористон 11-бис, около Триумфальной Арки, в свободной квартире инженера Ниссена. А. А. Ниссен был из первой эмиграции и познакомился с Максимовым ещё в Москве, когда приезжал туда, как турист.
Через какое-то время Максимов лично получил финансирование для журнала, задуманного им и Синявским ещё в Москве. Идея была — соединить силы литераторов из всей Восточной Европы. По предложению А. Д. Сахарова журнал был назван «Континент». Он начал выходить с середины 1974 года.
Редакция была в Париже, в том же доме, где жил Максимов, типография во Франкфурте (она принадлежала «Посеву»), а финансирование приходило от берлинского «короля немецкой печати» Акселя Шпрингера. Большая половина денег, однако, была не шпрингеровская, а американская, в основном от «Дома Свободы», который финансировался разными частными фондами, а частично и ЦРУ.
Я несколько раз ездил с Максимовым в Берлин к Шпрингеру в качестве переводчика, так что познакомился с этим незаурядным человеком, известным немецким издателем и журналистом.
Изредка Шпрингер давал материалы в «Континент», они всегда шли в моём переводе. Чтобы не заказывать на стороне, и быть оперативнее, всё, что требовало перевода, мы старались перевести сами, в редакции. С польского переводила Горбаневская, с французского могли переводить трое: я, Вета и та же Горбаневская, а вот английского, и тем более немецкого, никто кроме меня в редакции вовсе не знал.