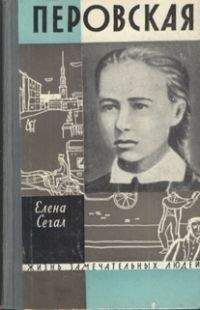После Сони встает Желябов. Он говорит:
— Я долго был в народе, работал мирным путем, но вынужден был оставить эту деятельность… Оставляя деревню, я понимал, что главный враг партии народолюбцев-социалистов — власти.
Первоприсутствующий останавливает его движением руки.
— Я должен предупредить вас, что я не могу допустить в ваших объяснениях таких выражений, которые полны неуважения к существующему порядку управления и к власти, законом установленной…
— Я это признаю, — соглашается Желябов и продолжает в прежнем тоне, — как человек, из народа вышедший, для народа работавший, я так понимал выгоду от политической борьбы.
— Для суда не нужно знать теории, — опять прерывает его председатель. — Суду нужно знать ваши личные отношения к делу.
— Совершенно верно, — подтверждает Желябов, — я мог бы держаться в таких рамках и к ним возвращусь.
Несмотря на то, что Фукс чуть ли не ежеминутно перебивает Желябова, градоначальник Баранов — протеже Победоносцева — жалуется императору на слабость председателя.
Министр юстиции, вызванный по этому поводу во дворец, заверяет его величество, что никаких неприличий не происходит, и предлагает присутствующему при этом разговоре Победоносцеву вместе поехать в суд.
Победоносцев демонстративно отказывается.
— Я дал себе слово, — говорит он резко, — ноги моей не будет в новых судебных учреждениях.
Не только Победоносцев и Баранов, все приверженцы старого заволновались.
«Неужели же люди энергичные, люди дела; а не пустой болтовни, — пишет Победоносцеву анонимный корреспондент, — все перешли в шайки злодеев, богоотступников, цареубийц; неужели у царя остались слуги лишь честные, деликатные бояре, считающие, что не следует даже с такими отщепенцами, каковы перовские и желябовы, иначе обращаться как учтиво и разыгрывать с ними эту противную и уродливую комедию, которую с ними ломали на суде, дозволяя им разглагольствования, изъяснения их богоотступной деятельности, хвастовства их злодеяниями и ученые прения?»
«Возмутительно, — говорится в воспоминаниях жены начальника штаба Московского военного округа Духовской, — что убийц государя судят правильным судом, спрашивают их: «Признаете ли вы себя виновными?» Их следовало народу отдать на растерзание».
«Хотя и говорят, что убийцам надо дать высказаться, — пишет в дневнике генеральша Богданович, — но я с этим не согласна. Рассуждения Желябова о религии, циничные разговоры Перовской — все это действует губительно и на слушающих на суде и на читающих газеты».
Но и здесь, среди этой тщательно подобранной и профильтрованной публики, не все разделяют такое мнение. На некоторых людей, ожидавших под влиянием газетных описаний увидеть мелодраматических злодеев, подсудимые производят скорее даже благоприятное впечатление.
«Душа дела Желябов и Перовская… — записывает государственный секретарь Перетц, — Перовская — блондинка небольшого роста, прилично одетая и причесанная — должна владеть замечательной силой воли и влиянием на других. Преступление 1 марта, подготовлявшееся Желябовым, было после его арестования приведено в исполнение по ее плану и благодаря замечательной ее энергии».
«Видя на скамье подсудимых эту миловидную блондинку с круглым лицом, с ласковыми голубыми глазами, одетую в простое, но со вкусом сделанное темное платье, — вспоминает через много лет граф фон Пфейль, — трудно было поверить, что это одна из опаснейших государственных преступниц, в числе преступлений которой было и убийство 1 марта…»
«…Высокого роста, — пишет он о Желябове, — стройный, сильный, с удивительным лицом: высокий лоб, густые, слегка вьющиеся волосы, довольно длинная борода, смуглый цвет лица, к которому отлично подходили темные, сильно блестевшие глаза. Никто не мог поверить, что это крестьянин. Его костюм и маленькие руки также не подходили для крестьянина».
«Это был выдающийся, богом одаренный человек… — отзывается он о Кибальчиче. — Не пойди этот молодой человек по преступному пути, из него вышел бы знаменитый специалист своего дела».
Люди тут же в кулуарах суда шепотом передают слова одного генерала, приятеля и сослуживца самого Тотлебена. Этот генерал произнес следующий приговор над Желябовым и Кибальчичем: «Что бы там ни было, что бы они ни совершили, но таких людей нельзя вешать. А Кибальчича я бы засадил крепко накрепко до конца его дней, но при этом предоставил бы ему полную возможность работать над своими техническими изобретениями».
Заседание возобновляется. В залу входят эксперты и свидетели. Их опрашивают, подводят к присяге.
Судебное следствие идет чинно и медленно. Один за другим берут слово председатель, адвокаты, прокурор. Желябов отражает удары. Заставляет свидетелей проговариваться. Ему нужно опорочить их показания, чтобы защитить Гельфман и Михайлова.
Каждый раз, когда Желябов говорит, прокурор пожимает плечами, иронически улыбается.
Кибальчич объясняет суду, что во избежание лишних жертв стремился к тому, чтобы радиус действия мины был по возможности ограничен. Эксперты подтверждают, что в случае взрыва воронка была бы небольшая и люди, находившиеся на тротуарах и в домах, не пострадали бы. Экспертов не мог не поразить Кибальчич, который в невозможных условиях сумел сделать то, что другим не удавалось даже в самых совершенных лабораториях. Они забывают, что он сидит на скамье подсудимых, и невольно говорят с ним не только как равные с равным, но даже с некоторым почтением.
Приговор над цареубийцами не вынесен, прокурор еще не произнес обвинительной речи, а новый царь уже выполнил приговор, который произнес над собой сам. Валуев называет внезапный, совершенный в тайне переезд императорской семьи в Гатчину «мерой о двух цветах».
«В самом деле, — писал парижский корреспондент газеты «Таймс», — странно видеть добычей страха тридцатисемилетнего человека здорового телосложения и геркулесовской силы. Его отъезд в Гатчину был настоящим бегством. В день, когда он должен был выехать, четыре императорских поезда стояли в полной готовности на четырех различных вокзалах Петербурга со всем служебным и военным сопровождением, и пока они ждали, император уехал без всякой свиты с поездом, который стоял на запасном пути».
Маркс и Энгельс писали в 1882 году в предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии»:
«Во время революции 1848–1849 гг. не только европейские монархи, но и европейские буржуа видели в русском вмешательстве единственное спасение против пролетариата, который только что начал пробуждаться. Царя провозгласили главой европейской реакции. Теперь он — содержащийся в Гатчине военнопленный революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе».