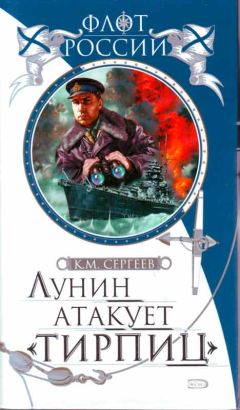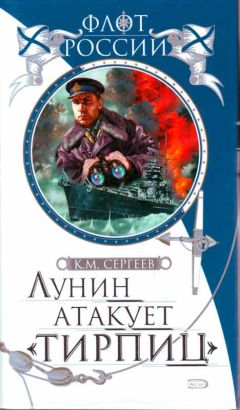16.05.1944
Написал в редакцию "Зори" по Олиному вопросу, тете Еве в Магнитогорск, и в редакцию газеты "Кировец" послал стихотворение "Жизнь".
День прошел почти даром. Создать ничего не успел, хотя пытался доработать стихотворение "Я мечтал о Днепре".
Здесь все лейтенанты - молодые парни, хорошие ребята. Но мне очень тяжело, и сердце мое ноет от бессилия и досады. Что мне делать? Как мне выйти из этой трясины, опутавшей меня всего? Пархоменко, как низкий человек, вскрыл мое письмо к Лапину и прочел его, включая, конечно, то место где было сказано о его вздорном приказе мне: "Переодеться солдатом и забросать, переправившись лодкой на немецкую сторону, их амбразуру гранатами". Теперь он мстит мне, и даже рапорта моего не принимает к командиру полка с просьбой о назначении меня по специальности. Он меня определенно хочет угробить и вместе с Полушкиным, который ненавидит меня исключительно потому, что я еврей, - спихнул меня на прозябание в стрелки.
Бойцы тяжелые. Суровым я с ними быть не могу - мне жалко людей. Ругаться на бойцов матерно я тоже не умею. Упрашивать, уговаривать, объяснять - вот что остается мне. Но люди этого не принимают, и хорошее отношение вызывает в них непонимание. Заборцева, правда, все боятся: он кричит и ругается. С ним бывает трудновато, когда он горячится, и мне.
Чернилами я не пишу, так как их у меня забирает Заборцев. Отказать ему неудобно, но, когда я прошу обратно - он не возвращает, говорит заняты.
Фриц спокойно сегодня себя ведет - изредка попукивает из винтовок и ахает минами недалеко. Чудом никого не убило из моих бойцов, когда они рыли блиндаж. Случайно они перед тем порасходились, и в каком-то полуметре от того места упала мина 81 мм.
Сапоги продырявлены - надо починить, а сапожника нет. Как бы не довелось одеть обмотки. Руки мою через день - некогда. А нахожусь у самой воды.
Самолеты реже летают. Винтовки подготовил к ночной стрельбе.
Вчера здесь были Хоменко и Рымарь - я читал им свои стихи. Потом подошли Забоцев и Телокнов. Напомнил как бы невзначай о своем наболевшем. Они отвечали, что не все стрелки погибают, и чтобы я не отчаивался. Я объяснил, что не смерть меня страшит, а люди, с которыми работать нужно. Но все мои разговоры впустую. Стихи мои нравятся им, а сам я, очевидно, нет. Вот в чем беда. Хоменко, правда, мало меня знает, а Рымарь любит, уважает и ценит самого себя только.
Эх, если бы с полковником удалось мне переговорить!
17.05.1944
Уважаемый товарищ редактор газеты "Советский воин" Н. Филиппов!
Препровождаю Вам этими строками одно из последних своих стихотворений "Жизнь".
Надеюсь, что оно будет опубликовано на станицах "Советского воина". Ваш отзыв и замечания по поводу моего стиха, прошу направить мне по адресу: Полевая почта 283/8-Ы, Гельфанду.
В условиях многодневного пребывания на передней линии, в окопах, что в 100-150 метрах от неприятеля, мне очень трудно, а вернее, вовсе невозможно услышать мнение и серьезную профессиональную критику своих произведений. Поэтому настоятельно прошу Вас не отказать в моей просьбе, тем более, что ввиду отсутствия у меня спокойного и свободного времени, в стихотворении возможны недоработки.
Если желаете, могу прислать и другие свои стихотворения: "Одессе", "Я мечтал о Днепре", "Миномет", "Гремят бои", "Вступление к поэме "Сталинградская эпопея" и другое.
На этом тороплюсь закончить. Крепко жму Вашу руку и оставляю Вам и Вашим сотрудникам свои наилучшие пожелания.
Жду Ваших писем.
С большевистским приветом Гвардии л-т Гельфанд.
20.05.1944
Уважаемый т. ответственный редактор газеты "Советский воин" и его сотрудники по редакции!
Посылаю Вам для публикации на страницах газеты свое последнее стихотворение "Я мечтал о Днепре". Очень прошу прислать мне почтой один экземпляр того номера газеты, в котором оно будет опубликовано, а также Вашу критическую оценку моего произведения с указанием недостатков и достоинств.
По своему усмотрению Вы можете выбросить четверостишья, показавшиеся Вам неуместными и слабыми, но, пожалуйста, не искажайте смысла добавлением или же сокращениями, противоречащими замыслу автора. Мне уже случалось встречать подобную безжалостную правку на страницах некоторых уважаемых красноармейских газет.
Заканчивая свое письмо, я не хочу терять уверенности в том, что Вы ответите мне в самом ближайшем будущем. Буду стараться быть полезным Вам своей корреспонденцией с передней линии фронта.
Гвардии л-т Гельфанд.
Вечером получил три письма: от Ани, Нины Каменовской и Галины Селивестровой. Написал сам тете Ане, в редакции "Советский воин" и "Советский боец", Третьяку о письмах и Короткиной Ане.
Вчера у меня было происшествие - не первое и, к сожалению сердца, не последнее, очевидно.
Заборцев собрал всех командиров для беседы. В середине нашего собрания мы заметили каких-то двух неизвестных гвардейцев-командиров, проходивших по нашей обороне. Кавалеры нескольких орденов - они сразу обращали на себя внимание. Я сказал Заборцеву, что их нужно проверить, и он поручил это делать мне.
Тем временем оба человека прошли по верху ворот в дамбе, мимо которых у нас были вырыты специальные хода сообщений.
- Подождите, - окликнул я незнакомцев. - Одну минуточку! - и когда те остановились, стал узнавать у них: кто они, откуда и для какой цели пришли.
Охнул снаряд в трех шагах от нас. Несмотря на свою большую величину, нас не поразил, так как мы упали, но лишь припугнул, заставил спуститься в траншею. Мы вернулись назад, откуда спутники мои начали движение, и с изумлением наблюдали, как точно по дамбе, изменяя угломер, противник бросал свои железные чудовища, по пути нашего вероятного следования.
Переждав немного и дав мне подробные объяснения о целях и причинах своего прихода, оба орденоносца снова пошли вправо вдоль дамбы, по теперь уже ходам сообщений, а я вернулся к командиру роты. Отчитавшись перед ним о результатах "переговоров", я собрался к себе во взвод.
- Товарищ старший лейтенант, - отрапортовал боец - упавшим у дамбы снарядом, насмерть ранило человека.
Мой путь во взвод лежал через эту траншею, где на отходной вехе, в ячейке на посту наблюдателя трагически закончилась жизнь красноармейца. На месте живого, зрящего, действующего бойца, сидела одна спина, в которую, казалось, ушла и свесившаяся голова и безжизненное туловище. Рядом, по всей стенке бруствера, грязно алело, разбрызганное во все стороны кровавое пятно - та часть человеческого существа, которая своим непрерывным движением и беспокойством заставляла чувствовать и мыслить сердце и разум жившего человека. Я смотрел молча, без страха и ужаса в глазах, привыкших к подобному. Кругом стояли бойцы и тоже смотрели.