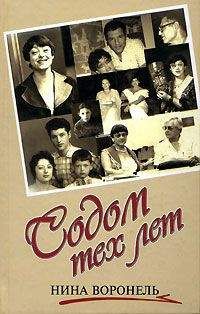Они стояли молча в ряд, мы тоже, у одного из них, в кепочке, вероятно, главного, в углу рта дымилась сигаретка. «Ну все, сейчас забьют насмерть», – обреченно подумала я, продолжая молчать.
Не знаю, сколько времени это молчание длилось, но я не выдержала первая. Сама удивляясь своему визгливому голосу, я выкрикнула:
«Чего вам надо?»
Тогда тот, в кепочке, перекатил сигарету из одного угла рта в другой и сказал хрипло:
«Слушай, профессор, если ты еще раз попробуешь играть с нами в такие игры, мы тебе руки-ноги переломаем».
Как только он заговорил, меня словно отпустило: я почувствовала – приказа нас бить «им» пока еще не дали, – и, рассекая их строй плечом, стала подталкивать Сашу к лестнице. Но он с младенчества не любил оставлять за противником последнее слово, тем более, что в него прочно въелся жестокий опыт детской исправительной колонии, которую справедливо приравнивают к самому страшному кругу ада. Он навсегда запомнил, как тогда, в лагере Отлян, один из взрослых блатных наставил ему в глаз рогатку, и Саша понял, что если он сморгнет, тот выбьет ему глаз. Огромным усилием воли он сдержался и не моргнул, неотрывно глядя на своего мучителя. Тот пару секунд покачался над ним со своей рогаткой, а потом, заскучав, отвернулся и пошел прочь. С тех пор блатные оставили Сашу в покое.
Вот и сейчас, ощутив ситуацию сходной с лагерной, он уперся на месте и, не отрывая взгляда от наглой морды в кепочке, сказал, почему-то тоже хрипло:
«Не смейте обращаться ко мне на «Ты»!
Если бы не драматизм этой западни в темном подъезде, я бы расхохоталась, услыхав сашину неуместную претензию, но мне было не до смеха. Я завизжала на самых высоких нотах:
«Хватит! Пошли домой!»
Но Саша не унимался. Он спросил:
«А вас что, не накажут, если вы мне руки-ноги переломаете?»
На что главарь в кепочке ответил весьма доходчиво и по-прежнему не переходя на «вы»:
«Нас, может, и накажут, но у тебя-то руки-ноги все равно уже будут переломаны».
Не в силах возразить на эту костедробительную логику, Саша все же позволил мне увести его вверх по лестнице. «Они» дружно развернулись на сто восемьдесят градусов и все время, пока мы поднимались в их поле зрения, стояли полукругом и молча смотрели нам вслед.
С этого дня пошла новая, вскоре ставшая привычной, рутина с почти ежедневными арестами в самое неудобное время и в самом неудобном месте. Обычно к концу дня Сашу отпускали, так и не добившись от него никаких уступок. Свои игры с ними он прекратил, осознав, что главную свою игру с ним – в кошки-мышки – они ведут всерьез. Иностранные «голоса» надрывались по всем радиостанциям, бесконечно повторяя ставшую уже привычной формулу «Профессор Александр Воронель…»
Где-то в это беспокойное время со мной произошла странная мистическая история. Мы с женой профессора Марка Азбеля, Люсей, сидели на диване в полутемном коридоре чьей-то квартиры, ожидая, пока наши мужья закончат очередной телефонный разговор с Израилем, и распутывали огромный клубок магендавидов на тонких серебряных цепочках. Клубок этот какой-то американский доброхот привез в подарок евреям Москвы, но он так старательно его прятал от таможенников, что серебряные цепочки переплелись безнадежно.
Не зная, чем себя занять и успокоить, мы решили попробовать извлечь из этого чудовищно заверченного клубка хоть несколько магендавидов, для стимула называя каждый спасенный чьим-нибудь именем. Настойчиво, виток за витком, я высвободила цепочки с четырьмя магендавидами, назвавши их Саша, Неля, Марк и Люся. Вслед за этой четверкой я с почти невероятной изощренностью извлекла из клубка Сашу и Люсю Лунц и принялась за освобождение Виктора Браиловского и Толи Щаранского. Примерно на полпути мои усилия были прерваны громким звонком в дверь, и в квартиру ворвались знакомые мальчики в штатском в сопровождении участкового, которые арестовали нас и забрали у меня клубок магендавидов с заключенными в его глубинах Виктором и Толей.
Можно ли считать простым совпадением, что в течение следующих двух лет всем освобожденным мною лицам позволили покинуть СССР, а Браиловский и Щаранский застряли там надолго и угодили в тюрьму?
О нашем очередном аресте почти мгновенно сообщила западная печать, так как наша жизнь все больше и больше становилась достоянием гласности. У нас практически не стало личной жизни – сотрудники КГБ не только нашпиговали нашу квартиру микрофонами, но и входили туда, когда им было угодно. Однажды, возвратясь после многочасового отсутствия, мы обнаружили на зажженной газовой конфорке бурно кипящий чайник, полный до верха. Можно было подумать, что он заколдованный, если с часу дня до десяти вечера из него не выкипело ни капли воды. Я даже не успела толком возмутиться, как в дверь позвонили – нас пришел проведать один из наших ангелов-хранителей, участковый милиционер Коля. Я его упрекнула:
«Если уж вы входите в нашу квартиру, как к себе домой, то хоть газ выключайте перед уходом».
Коля поглядел на кипящий чайник и начал поспешно оправдываться:
«Это не мы, это эсэсовцы!»
Меня эсэсовцы после того случая в подъезде запугали настолько, что я сама начала заботиться, как бы они нас не потеряли. Где-то в разгар подготовки к международному семинару в писательской семье случилось горе – неожиданно скончался Боря Балтер. Боря был славный человек, и его все любили. Заполнив два вагона электрички, московский Союз писателей в полном составе отправился на Борины похороны в Малеевку, где он жил со своей второй женой Галей. Мы тоже поехали, так как в последние годы были дружны с Борей.
Когда мы вошли в вагон, с нами вместе вошли четверо дюжих парней, явно не писательского вида, – двое стали у передней двери, двое у задней. Опытный писательский глаз опознал их сразу, и по вагону прокатился тревожный шумок: «С чего бы это? За кем?»
Но тут же головы закачались, склоняясь и расклоняясь, и прокатилась волна облегченных вздохов: «Все в порядке, это не за нами. Это за Воронелями».
Множество взглядов обратилось на нас с упреком – как будто мы напроказили в публичном месте. Наверное, они были правы – мы ведь и впрямь напроказили.
В Малеевке на станции писатели разместились в специально поданных автобусах, и мы с ними. А за автобусами покатились две серые «Волги» с четырьмя седоками каждая. После похорон к нам подошел Вася Аксенов и, чуть смущаясь, попросил:
«Братцы, сейчас Витя (фамилии не помню) везет Юру Трифонова в Москву. Может, и вы уедете с ними? А то вы со своими провожатыми нам все похороны испортили».
Возразить на это нам было нечего, и мы покинули Малеевку вместе с Трифоновым, так толком и не попрощавшись ни с Борей, ни с Галей. Проехав полдороги, я, к своему ужасу, обнаружила, что нас никто не сопровождает – наши провожатые, похоже, не заметили, как мы уехали. «Ну все, теперь они нам покажут! Они ведь не поверят, что мы не стремились от них сбежать!» – почти зарыдала я и по приезде в Москву стала искать выход из отчаянного положения, в котором мы оказались. Больше всего я боялась опять оказаться с ними с глазу на глаз в нашем темном подъезде. Не зная, что бы такое придумать, – ведь не звонить же на Лубянку с требованием вернуть нам нашу свиту! – я предложила Саше пойти в гости к Сахарову: уж там-то они нас обязательно обнаружат! И точно – когда мы поздно вечером вышли из квартиры Андрея Дмитриевича, наши ангелы-хранители были уже тут как тут. Трудно представить, какое облегчение я испытала, узнав их верные серые «Волги»!