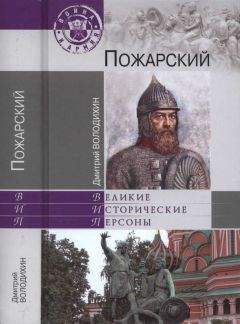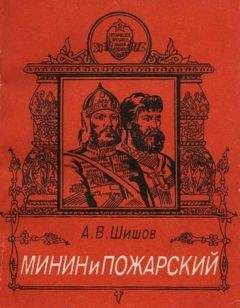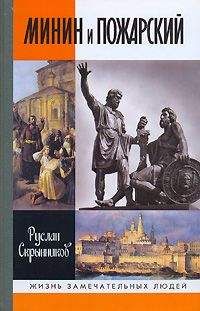Молодой царь Михаил Федорович и особенно его отец Филарет Никитич увидели в иконе великую святыню. Властвование их династии возникло из земского освободительного движения, словно цветок из бутона. А образ Казанской являлся зримым воплощением Божьего покровительства земскому делу. Казанскую икону Божией матери прославили еще в XVI веке, но это был неяркий свет. Лишь при первых государях из рода Романовых она приобрела сияние, разливавшееся по всей стране.
Государь Михаил Федорович, его мать, инокиня Марфа, а затем и патриарх Филарет окружили чудотворный образ из Введенского храма невиданным почитанием. Дважды в год в ее честь устраивались крестные ходы: 8 июля — в память о просдавлении ее в Казани, а также 22 октября (на память святого Аверкия Иерапольского). Второй крестный ход прочно связывал освобождение Китай-города в 1612 году с покровительством Богородицы земскому воинству.
В конце 1624-го — середине 1625 года «…тот же образ по повелению государя царя и великого князя Михаила Федоровича всея Русии и по благословению великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича московского и всея Русии украсил многой утварью боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский по обету своему».[410]
Долгое время с именем князя Д. М. Пожарского связывали создание Казанского собора на Красной площади, разрушенного в 1936-м и восстановленного в 90-х годах XX столетия. Строку из летописи об «украшении» образа «многой утварью… по обету» воспринимали как сообщение о строительстве этой церкви. Однако документы говорят о другом: каменное здание в начале Никольской улицы — там, где она втекает в Красную площадь, — строилось, вероятнее всего, на казенные средства и по инициативе «двух государей»: царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета Никитича. Работы завершились осенью 1636 года. Причастность Д. М. Пожарского к его возведению, какие-либо пожертвования или иные знаки участия князя в судьбе Казанского собора нигде не зафиксированы. Нет их ни в государственных, ни в церковных бумагах, ни даже в завещании Дмитрия Михайловича.[411]
В 1632 году у стены Китай-города срочно соорудили деревянную церковку, освященную в честь той же Казанской иконы Божией матери. Преемственность между этим деревянным, впоследствии исчезнувшим храмом и каменным на Никольской улице очевидна. Может быть, Дмитрий Михайлович дал деньги на строительство этого деревянного «прототипа»?
Не исключено.
Однако…
На сей счет возникает сомнение: для Пожарского Китай-город — отнюдь не памятное место. Осенью 1612-го его стену штурмовали ратники Трубецкого. Разве только царь и патриарх просили князя поставить храм именно здесь.
Возможно, Дмитрий Михайлович выстроил отдельную часовню или даже небольшую церковку рядом с Введенским храмом на Сретенке — специально под чудотворный образ Казанской. И уж точно, он сделал богатое пожертвование на богослужебную утварь.
Значит, он оказался одним из главных творцов великого всероссийского почитания Казанской иконы Божией матери. Оно установилось в 1620-х — 1630-х годах. Если бы князь Пожарский не позаботился об иконе после очищения Кремля, если бы он не создал для нее особый придел во Введенском храме, если бы он не рассказал тамошнему духовенству об особой святости образа, тогда громкое его прославление отодвинулось бы на неопределенный срок. И трудно не усмотреть в действиях князя внимание к мистическому вмешательству Бога в земные дела. Трудно не увидеть его готовность покориться воле Божьей, действовать с нею, во имя нее. А такое благочестие дается редко и, возможно, свидетельствует об особой отмеченности свыше.
А вот и еще одно отличие Пожарского: прежде всякого другого имущества по завещанию раздает он близким людям — жене, сыновьям, любимому зятю — иконы…
Не деревни и села.
Не шубы.
Не сабли.
Не серебряные кубки.
А иконы.
Для подобного выбора нужно особенное религиозное чувство — такое, чтобы пронизывало всю жизнь и диктовало в ней главные приоритеты.
Образ Богоматери, пережив бури многих времен, оставался на воротах московской усадьбы князя до XIX века.[412]
Наконец, еще одно невиданное событие в жизни полководца.
Когда Первое земское ополчение двинулось из Ярославля в Ростов, Дмитрий Михайлович на какое-то время покинул его. «…A сам с небольшим отрядом пошел в Суздаль — помолиться к Всемилостивому Спасу и чудотворцу Евфимию и у родительских гробов проститься», — сообщает летопись[413].
Не понимая князя, не понимания и сам дух Смутного времени, упрекают его: дескать, кампания в разгаре, а он моления возносит да к гробам приникает! Торопиться надо, не ко времени всё это!
Во-первых, пока Дмитрий Михайлович совершал путешествие к суздальским святыням, армия не останавливала марша.
Во-вторых, у Пожарского имелись все причины поступить именно так. Да, в ту пору любое крупное дело начиналось с молебна — нашему бы времени вернуться к сей традиции. Но земцев встречали с молебнами и провожали с молебнами во всяком городе. Суть беспокойства Пожарского — иная, более сложная. Чаша грехов русской земли переполнилась. Крови праведников не хватило во время «Страстного восстания», чтобы Бог дал им «одоление на враги». И другой крови праведников не хватило — когда Первое земское ополчение пришло под Москву очищать ее от чужеземцев, да замарало святое дело свое бесчинствами. Теперь князь вел к русской столице последнее, что еще могла собрать земля, теперь он хотел чистоты во всяком действии… и теперь он страшно тревожился: хватит ли праведности на сей раз?
У Пожарского, как видно, имелось сильное мистическое чутьё. Он захотел отделиться от соратников и вознести Господу моления сам, лично, в одиночестве. Князь просил у Бога многого. Один из его небесных покровителей, святой Димитрий Солунский, молил когда-то Господа об избавлении родной Солуни от беспощадного врага: «Господи, не погуби град и людей. Если град спасешь и людей — с ними и я спасен буду, если погубишь — с ними и я погибну». Из любви к одному праведнику Бог спас целый город. Теперь настал черед Дмитрия Михайловича молить теми же словами и просить Бога из любви к нему — воину, содержащему себя в душевной чистоте, спасти Москву.
Ну а если не дарует Господь того, о чем хотел умолить его князь, что ж… да будет воля Его. Тогда из Москвы Пожарскому домой не вернуться и отеческих гробов более не видеть. Самое время попрощаться с ними.
На Руси всякое великое дело — мистика. У нас она, кажется, виднее, чем у других народов. Не сильнее, нет, — Бог всех любит, не нас одних, — но именно заметнее, нагляднее. Учат нас, учат, а мы по сию пору слабы душами. Но иногда является большой праведник и большого разумения человек. Он понимает. И он спасительно ходатайствует за всех нас, грешных русских людей.