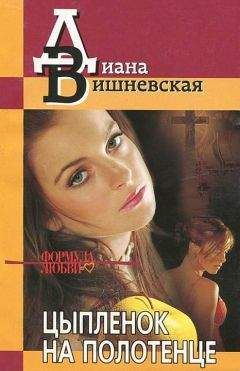— …Это провокация! Меня специально поместили в такую душегубку, чтобы у меня к вечеру пропал голос, надо мною издеваются, я не пойду в ту комнату!..
Опять же чувствую за своей спиной всю Россию, что если спою неудачно, то все кончено, Россия погибла… Нас же с детства так воспитывают, и мы за границей идем на сцену с таким видом, будто закрываем грудью стреляющий пулемет… Родина-мать зовет!
Наконец, накричавшись до хрипоты, я объявила несчастному Дедюхину, что петь вечером не буду и немедленно уезжаю в Москву, после чего, усевшись в его комнате в кресло, мрачно замолчала. Спать он, конечно, не мог и, еле дождавшись утра, позвонил директору концертного зала, на немецком и французском языках объясняя случившееся. Директор в панике звонит в Нью-Йорк Юроку, что он ничего толком не понял, но мадам Вишневская в истерике, плачет и не хочет петь вечером концерт. А у Юрока — акулы капитализма — свои резоны. Когда примадонна плачет, что нужно сделать? Примадонне нужно дать денег. Только смотря кому сколько. Так как я — советская примадонна и получаю, как он хорошо знает, от своего государства 100 долларов за концерт, то мне нужно дать еще столько же, и конец слезам…
И вот передо мной, распаренной ночным «бродвейским утюгом», предстал улыбающийся до ушей милейший американец со стодолларовой купюрой в руке.
— Господин Юрок просил вам передать, чтобы вы до концерта погуляли.
— Почему это я должна гулять?
— Нет, вы не так поняли… чтобы вы погуляли по магазинам…
И протянул мне 100 долларов.
— Что-о-о?! — завопила я. — Мне, советской певице, — деньги? Это оскорбление! Не сметь! Вон отсюда!..
Выхватила у него сто долларов и, разорвав, бросила ему вслед. Распалив свое воображение до «кровавых мальчиков в глазах», вечером я, конечно, пела концерт. А на другой день в газетах писали, что «русская певица дала нам такой мир переживаний, какой мы можем встретить только у Достоевского». Да ведь не с неба же и брал свои образы великий наш русский писатель, мы и он — едины, и некуда нам деваться от нашего горячечного воображения и вечных, неразрешимых проблем.
Но, как правило, с концертами не было осложнений.
В оперных театрах все было намного сложнее. На первой и единственной репетиции «Аиды», когда я приехала петь ее на следующий год в «Метрополитен», мы с Джоном Викерсом — Радамесом — поссорились и разошлись, как в море корабли.
Я привыкла много работать, люблю репетировать, особенно с хорошим партнером, чтобы во время спектакля творить, а не думать о технических деталях.
Повторяя с Викерсом по нескольку раз мизансцены в сцене Нила, я заметила, что он все больше мрачнеет — видно, не хочет репетировать. Так дотащились мы до последнего дуэта, и тут он собрался уходить.
— Здесь все ясно, встанем и споем.
— Нет, давайте условимся, что мы будем делать. Если не хотите, что я предлагаю, я сделаю то, что захотите вы, но стоять на одном месте весь длинный дуэт мы не можем — это спектакль, а не концертное исполнение.
— А я говорю вам, что у меня больше нет времени, я должен уйти.
— Как вам не стыдно! Это невежливо, я женщина, и, в конце концов, я здесь гость.
— Мы все здесь гости.
— Что значит — все?!
Мне в голову тогда не пришло, что ведь в самом деле так, и я восприняла его ответ как хамство.
— А вот так — все! О'кей, гуд бай, герл!
И ушел… А я осталась с разинутым ртом и долго не могла прийти в себя от возмущения. Я-то знала, как у нас в театре принимают иностранных гостей. Сколько раз бывало, что своего артиста снимут со спектакля и спрашивать не станут, а дадут спеть заморскому соловью, часто весьма посредственного качества. Это наше русское гостеприимство, вежливость перед иностранцами, а Ваньке или Маньке в то же время — по затылку.
И вдруг мне такое — у нас все гости! Конечно, я завелась с пол-оборота:
— Я не буду у вас петь! Как смеют со мною так разговаривать! На черта мне нужен в таком случае ваш спектакль и Ваш театр. Я хочу домой!..
Режиссер стал мне объяснять, что Викерс очень нервничает потому, что его жена в Канаде, что она родила то ли дочь вместо сына, то ли сына вместо дочери, я толком не поняла…
— Успокойтесь, завтра он извинится перед вами, все будет о'кей!
И… хлопнул меня по плечу! Я даже не знаю, как я внешне отреагировала на его жест, но бедный американец отлетел от меня далеко в сторону:
— Что, что случилось?
Подбежал мой переводчик из конторы Юрока и стал ему объяснять, что нельзя хлопать русских по плечу, что это их ужасно оскорбляет…
— Почему?!
Он смотрел на меня, как на первобытную… После так печально окончившейся репетиции повели меня в мою комнату, где уже висели костюмы Аиды. Мне они не понравились: тяжелые и невыразительные, неинтересные по цвету, стилем они напоминали вечерние платья в витринах на Пятой авеню.
— У меня есть свой костюм, я в нем буду петь.
— Как так? Почему?
— Потому что это мой образ, моя роль.
В Большом театре всем гастролерам-иностранцам разрешали выходить в своих костюмах, если они того хотели. А тут на меня смотрели несколько пар широко открытых глаз, и было видно, что джентльмены явно не понимают, о чем я говорю.
— Но в вашем контракте ничего не сказано о костюмах. У нас все певицы поют вот в этих.
— Значит, они именно такой видят Аиду, а я совсем иною. В ваших костюмах я не смогу двигаться, не смогу играть свою роль так, как я ее себе представляю.
— Но в вашем контракте…
— Да при чем здесь контракт! И какое имеет для вас значение — в каком платье я буду петь, лишь бы оно соответствовало роли и было мне удобным.
— Но у нас все должны быть в одинаковом положении, мы не можем вас выделять.
— Так меня-то вы и не выделяете, я хочу быть весь спектакль в одном скромном платье вместо ваших трех!
Моя комната все больше наполнялась представителями дирекции.
— Нет, мы не можем разрешить, у нас все поют…
— Вот и пусть они поют, а я не буду!
— Вы понимаете, что вы портите отношения с нашим театром?
— Да, понимаю, но у меня есть свой театр, и я им очень довольна. Я вам не навязывалась, вы меня сами пригласили, и я приехала. Но не добиваться права работать у вас, а выступать перед публикой, которой хочу показать все мое искусство. Вы хотите, чтобы я у вас пела? Тогда дайте мне возможность быть артисткой, а не манекеном.
В конце концов, после совещаний на высшем уровне, пришли к общему согласию, что мне сошьют точно такое же платье, как и мое, но фисташкового цвета, и я выйду в нем только в первой картине, а потом переоденусь в свое красное, уже на весь спектакль.