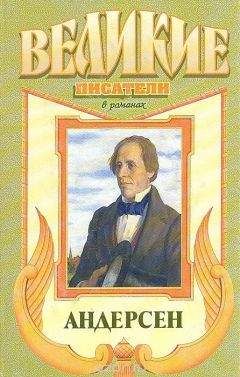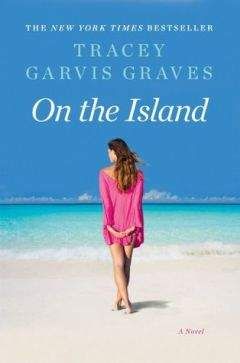В жизни каждого человека возможно счастье. Нужно иметь соответствующую натуру. В тюрьме можно испытать счастье от мгновения лунного света, в супружеском несчастье — думая о нерождённых детях, на том свете — думая о земле, на земле — думая о другой жизни... Нужно только иметь молекулу воображения... Родиться с жаждой счастья.
— Андерсен, вы слушаете меня или нет?
— Я слушаю.
— Повторите, что я сказал.
Андерсен молчит. Его длинные пальцы становятся короче со стыда, он чувствует это; его глаза уменьшаются и глядят из глазниц, как из бойниц; он так хочет перенестись сейчас в домик молодых супругов, но петля учительского голоса поднимает его к потолку, и он смотрит вокруг, надеясь на подсказку, но все молчат, зная, что подсказка наказуема, а Андерсена всё равно не оставит в покое господин Мейслинг.
— Извините, я прослушал.
— Хорошо. Извиняю в сто первый раз.
— В сто второй, — подсказывает чей-то услужливый голос с первой парты.
— Вот видите, даже в сто второй.
«Ну, почему Бог не накажет Мейслинга за его издевательства надо мной?» — вдруг вспыхивает правомерный вопрос, и Андерсен, нерадивый ученик, пугается своего вопроса и становится похожим на вопросительный знак.
— Садитесь, — смилостивился наконец Мейслинг, сам устав от своей страстной речи, и Андерсен садится на свой стул — точно попадает на неизвестный остров. Куда он отправился на этот раз?
Он испугался, что так нехорошо подумал о Мейслинге, и отправился к кресту Святого Андерса. Народ рассказывал, что он был священником здесь, в Слагельсе, но Гроб Господень призвал его поклониться себе. И в тот же день он отправился в путь. Дорога была полна тяжёлых приключений, но имя Господа спасало от всех напастей. В день возвращения домой Андерс так забылся в молитве, что корабль ушёл без него. Это расстроило священника. Выткавшийся из воздуха человек на осле позвал его взглядом. Священник уснул и проснулся в родном городе. На целый год опередил он корабль!
Андерсен молился у этого креста, думал об ангеле, помогшем Святому Андерсу, просил у Бога совета и проникался постепенно красотой, окружавшей его. Волновало, что здесь сидел в своё время поэт Баггесен. Всякое место уже тогда он привязывал к поэзии, к её высоким струям, парящим над полюбившимся местом. Отсюда Баггесен, учившийся в этой же гимназии, мог видеть свой родной Корсер, а Андерсен, как бы ни старался, не разглядит за туманами ни свой родной Оденсе, ни Копенгаген... Ах, если бы, ах, если бы... Он так хотел, чтобы и перед ним оказался Ангел Господень, и пригласил его на своего осла, и помог добраться к Гробу Господню, чтобы принести свою многострадальную и в то же время радостную молитву. Андерсен даже оглянулся по сторонам, чтобы не пропустить ожидаемого всей душой момента, но вокруг было пусто, только туман, вездесущий туман о чём-то напряжённо думал, пытаясь понять о земле что-то, чего он вовсе не знал. Молодой поэт думал вместе с туманом и ушёл с заветного места, только когда стало темнеть и обратная дорога обещала вездесущую ночь, хранительницу злых людей. Он ещё раз перекрестился и отправился в обратный путь, и у него было такое чувство, когда он спускался вниз, будто он оставил свою душу у креста Святого Андерса.
Андерсен мучился тем, что ректор Мейслинг его не понимает, он постоянно молился и радовался весне не потому, что пробуждается природа: весной он вставал раньше и занимался дома перед тем, как уйти в гимназию. Он уже осознавал, что без серьёзных занятий ему нет места в Копенгагене. В душе он считал, что его детство превратит его в поэта, ведь каждый день к нему приходили мечты, чистые и проникновенные, они должны дать прекрасные плоды! Вера в то, что он станет поэтом, была так лее необходима для него, как вера в Бога, в сущности, это было одно и то же: он верил, что его поэзия станет молитвой. Он жаловался в письмах на трудности учёбы, говорил всем, что кроме Бога, у него нет отца.
В 1823 году, спустя полгода после поступления во второй класс гимназии, у него были отличные оценки по поведению и Закону Божьему. Стихи забыли его, да и сам он преградил им дорогу: боязнь быть выгнанным из училища заставляла отдаться учебникам, не желавшим иметь с ним никакого родства. Он уставал от однообразия жизни этого городка, разновидности Оденсе, в который забросила его судьба. А Мейслинга, в свою очередь, раздражало в его ученике всё, порой, он и сам не отдавал отчёта, за что же он ненавидит Андерсена.
Однажды, в марте 1824 года, Андерсен получил плохую оценку и сел с улыбкой на лице, которая вывела Мейслинга из себя. Гимназист почувствовал волны ненависти, идущие из сердца Мейслинга. Они парализовали его волю страхом.
Мейслинг перевёл дух. Он говорил совершенно искренне. Этот выкормыш Коллина требовал к себе достойного внимания. Забомбил его стихами. Задаёт глупые вопросы. Ведёт себя как дворянин. И в глаза смотрит так прямо, будто истина принадлежит только ему. Единственное его достоинство — самоуверенность, если это можно считать достоинством.
Он взглянул на распекаемого ученика. Непомерно длинный. Глазки, синие, маленькие, как две капельки, спрятаны глубоко в глазницах. До них не добраться, такое чувство, что они спрятались там, боясь вылезти на свет Божий и увидеть его в полной истине. А может, они так глубоко, чтобы лучше смотреть в себя? — мелькнула у Мейслинга мысль.
— Вы слушаете меня, Андерсен, или опять витаете в своих бесполезных для общества мыслях? Подумайте о матери! Она до сих пор стирает бельё богатых и пьёт.
Андерсен так пожалел, что порою бывал откровенным со своим ректором, но он был такой натурой, для которой быть откровенной — это жизненная необходимость. Сколько раз он давал себе слово, что никогда не будет откровенным с людьми, которые его не любят.
— Я слушаю вас, господин ректор.
— На вашем месте могли бы учиться сотни более достойных, чем вы, детей. Вы занимаете чужое место, и потому вы ему чужды. — Он от души порадовался своему каламбуру. — Раз уж судьба соблаговолила подарить вам чужое место, так будьте добры, отблагодарите свою судьбу и хорошо учитесь. Когда такие люди, как господин советник Коллин, пекутся о вашей судьбе, будьте благоразумны и овладевайте теми небольшими знаниями, которые я пытаюсь запихнуть в вашу непонятливую голову. Только учёба может стать для вас главной дорогой жизни. Молитесь о Коллине и слушайтесь меня!
Речь получилась отменной. Сколько Цицеронов пропало в заштатных гимназиях, как обогатили бы они отечественную словесность! Мейслинг, распалённый, снова подумал о своей дурацкой судьбе: он прекрасный поэт — и это никто не желает признавать из зависти. Он написал прекрасный учебник — никто не желает понять как нужен он ученикам. Конечно, конечно, этому мешают такие вот выскочки, вроде Андерсена, эти проклятые выскочки мешают пробиться истинным талантам, они появляются неизвестно откуда, становятся приживалками людей, обладающих властью, жалуются, плачут, сочиняют худосочные стишонки, и в результате — гимназия, учёбу в которой оплачивает государство, то есть, в конечном итоге, он — Мейслинг. А Мейслинги — эти волы истории, безымянные Мейслинги — вытаскивают за уши к знаниям неких Андерсенов, потом те, по недоумию, не могут занимать никаких приличных должностей и служат где-нибудь в библиотеках, газетах, определяют общественное мнение, ходят в салоны известных семейств и на дух не переносят таких, как он, Мейслинг, потому что хорошо знают — это Мейслингам обязаны они своими знаниями, своей умственной натаской. Потом женятся и доживают свои годы в тишине и покое — газетчиками, писателями или на государственных местечках, и всегда, если им попадутся отпрыски Мейслинга, будут их топить, потому что места под солнцем очень-очень мало. Вот так сереет литература, поэзия, живопись, почему-то эти выскочки всегда и везде, вот ведь не терпелось этому Андерсену отправиться в столицу, таким молодым, в никуда, — и ничего, смотрите-ка, пристроился при известных людях — и вот уж возомнил себя поэтом, драматургом, будет до конца жизнишки своей бездарной носить пьески в Королевский, театр, советоваться, просить объяснений, обхаживать критиков и рецензентов, следовать советам умных людей, переправлять свои бездарные пьесы, которые после добрых умных советов становятся всё лучше, и глядишь — уж и имя Андерсена вспыхнет на афише Королевского театра, и слава, и улыбки высокородных дам, и свет в ещё недавно тёмном окне судьбы... тот свет, на который он, Мейслинг, будет смотреть не без зависти и удивления. Пусть уж господа Андерсены помучаются за своё будущее благополучие, заплатят талантливым Мейслингам за свою бездарность.