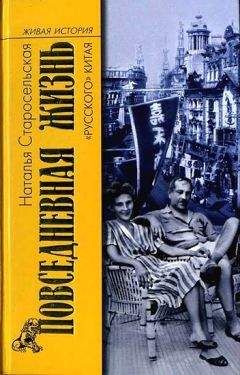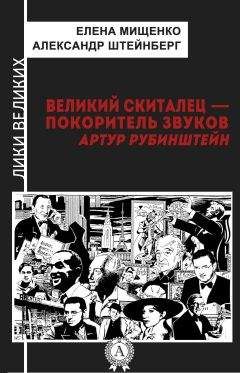Почти комично звучит в этом контексте рассказ Дмитрия Петровича Жемчужина, секретаря харбинского Общества домовладельцев. Его «эпопею» приводит в своих воспоминаниях И. Пасынков:
«Иду я теплым августовским днем по улице и вдруг вижу — едет на извозчике Владимир Николаевич Жернаков, председатель Общества домовладельцев. «Вы куда?» — спрашиваю я его. «Представляться коменданту», — отвечает тот. «А я как же? Мне же неудобно не представиться!» — «Ну, садитесь, поехали вместе», — согласился он. И вот мы вместе приехали в Ямато-отель. Фамилию Жернакова офицер сразу в списке отметил, а мою не нашел: «Вас нет в списке», — пояснил он. «Но как же, мне неудобно не представиться как секретарю Общества домовладельцев!» — «Ладно, я припишу вас», — ответил офицер и предложил обоим пройти наверх. Вот так я и приехал «представляться», только не военному коменданту, а начальнику лагеря на Урал в январе 1946 года…»
И еще одно наблюдение Аллы Дворжицкой-Светлановой, еще один штрих в психологической атмосфере Харбина 1945 года:
«Многие военные попали на эту «быструю» войну сразу после Отечественной. У некоторых нервы были жестоко расшатаны, они перестали ценить жизнь как свою, так и чужую. Чуть что, хватались за оружие. Однажды начался наш спектакль. Я была на сцене. Только успела сказать первую фразу, как услышала выстрел. Мне показалось, что стреляли по сцене, по мне. Уставилась в публику с немым вопросом: за что? В полутьме зрительного зала увидела, что через барьер верхней ложи напротив сцены перевесился вниз головой человек. Безвольно висели руки. Казалось, что сейчас он выпадет из ложи. Около него возникшумок, возня… Занавес закрыли. Через несколько минут мы начали спектакль сначала и доиграли без происшествий. Узнали, что в ложе один офицер застрелил другого за то, что тот сел на его место и не хотел его освободить».
Очень скоро русским пришлось привыкнуть к зловещей для слуха аббревиатуре — СМЕРШ.
В августе-сентябре 1945 года, сразу вслед за армией, в Харбин вошли смершевцы. Началась охота на людей. Сначала арестовывали и бросали в тюрьмы, затем развозили по многочисленным островам «архипелага ГУЛАГ», а спустя несколько лет раздавали сроки наказания и статьи, хотя, в сущности, вина на всех была одна: родились и выросли за границей…
В одном из номеров газеты «На сопках Маньчжурии» мне попался страшный документ — очерк под названием «50 лет молчания» с посвящением:»… тем девчонкам и мальчишкам, которые, как и я, попали в застенки СМЕРШа». Он подписан латинскими буквами N.N. и сопровожден рисунком: юная девушка с обликом героинь Лидии Чарской опустила чуть повернутое вбок лицо на кисти рук и смотрит куда-то далеко-далеко. И во взгляде ее — неизбывная пустота.
Этот очерк нельзя дробить, делить на цитаты, поэтому я привожу его почти полностью, с незначительными сокращениями:
«Чтение страниц газеты «На сопках Маньчжурии»… всколыхнуло во мне тяжелые воспоминания, те, которые гнетут меня вот уже 50 лет, и то, что произошло со мной в сентябре 1945 года в Харбине, городе нашей юности. А было мне тогда 18 лет…
Восемнадцать, девятнадцать,
Черт возьми, замечательных лет.
Только в эти года можно, как никогда,
И смеяться, и петь, и любить.
Было и у меня в те годы то, что написано в этих строках. Увлечение спортом, засунгарийские площадки с игрой в колечко, волейбол, катание на яхте, песни под вечер и все то, что было присуще в эти славные юные годы.
Была и любовь, начавшаяся со знакомства в трамвае, затем дружба, со временем перешедшая в большое чувство первой чистой любви.
Пела я и в хоре в одной из пристанских церквей, состояла в кружке «Русские девушки» при Русском клубе на Диагональной улице, от которого мы жили в минутах ходьбы. Занимались там рукоделием, шитьем, а бывшая ученица Смольного института учила нас этике и манерам, как себя держать в обществе, как сидеть, как обращаться с ножом и вилкой и многое из того, что не преподавалось в школе.
Был в моей жизни и Белый бал после получения аттестата зрелости, когда соученики с горящими глазами поздравляли друг друга, а милая добренькая мама говорила: «Все у тебя впереди, доченька, ты теперь у меня взрослая».
Были и мечты о высшем образовании, но не получила я его — злой рок постиг меня.
По сей день помню август 1945 года, когда мы, молоденькие девчонки, будущие студентки, бегали встречать «освободителей», бросали цветы, улыбались, радовались — ведь пришли же русские, свои. Победа!
Вскоре по городу прошел слух, что идут аресты как молодых, так и пожилых. В одну из сентябрьских ночей 45-го к нам в дверь сильно постучали. Когда открыли дверь, то перед нами стояли военные. На наш вопрос: «Что нужно?» — спросили: «Здесь живет такая-то?» Назвали мое имя и фамилию.
— Одевайся, ты арестована!
— За что? — спросила мама.
— Разберемся! — был ответ.
Я стала выходить. Оглянувшись, увидела маму со слезами и ужасом в глазах.
Посадив меня в машину, увезли в здание японского консульства. Провели внутрь, вниз по лестнице, втолкнули в одну из комнат-камер. На потолке горела еле-еле светящаяся лампочка. Кое-как я примостилась на полу у стенки.
На следующий день поздно вечером меня увели на допрос. Поднявшись на этаж выше, ввели в комнату. Увидела стол, чуть подальше стул, около стены топчан-диван, небольшой умывальник и парашу. В комнате находилось двое военных. Один — невысокого роста, полный, с покатыми плечами и чуть сгорбленной спиной. Широченные галифе на полном животе. Лет ему было за сорок. Не русского типа, с темными курчавыми волосами и горбатым носом. Неприятный тип с бесформенными толстыми губами. Другой — выше среднего роста, блондин, худощавый.
Посадив меня на стул, направили настольную лампу мне в лицо. Начали допрос: фамилия, имя, отчество, возраст и далее — в какой диверсионной группе состояла, какие террористические акты готовила и вела против СССР? Весь допрос они сопровождали ужасными, грязнейшими ругательствами. Требовали, чтобы на кого-нибудь указала, назвала имена и фамилии. Допрашивали оба, по очереди, что-то писали на листах бумаги.
Так продолжалось несколько часов. Затем заставили подписать, но я отказалась, сказав, что хочу прочитать, но в ответ — опять грубейшая брань. Мне было уже все равно, лишь бы скорее это кончилось, и я подписала несколько листов.
Отложив их в сторону, старший по возрасту приказал мне раздеться. Сняла платье, но он заорал:
— Все снимай! Все! Останься, в чем мать родила!
Я медлила, на что опять был окрик: