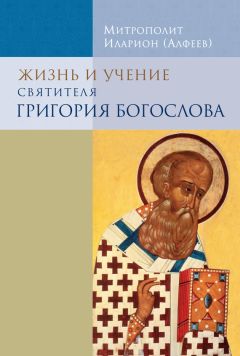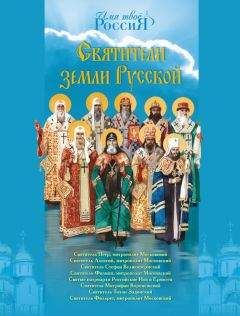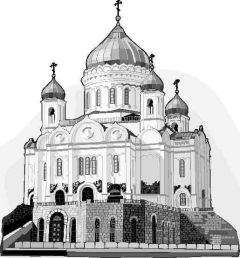Переписка Григория с Василием после избрания последнего архиепископом Кесарии Каппадокийской была достаточно регулярной. В основном она сводилась к тому, что Василий приглашал Григория к себе, а Григорий под разными предлогами отказывался приехать. Одно из писем того периода представляет интерес с догматической точки зрения: в нем речь идет о Божестве Святого Духа. Третья четверть IV века была временем напряженных споров по этому по воду: Божество Святого Духа отвергалось, в частности арианами, «омиями» и «омиусианами». К числу последних относилось большинство людей, которые окружали Василия, в том числе его хорепископы. Хотя Василий верил в Божество Духа, но в силу обстоятельств времени он избегал заявлять об этом открыто. Такая тактика вызывала недовольство в кругах строгих никейцев, в частности среди монашествующих[109].
В письме, о котором идет речь, Григорий сообщает своему другу о том, как в некоем собрании он защищал его от упреков одного монаха, который всем говорил, что Василий уклонился от истины в учении о Святом Духе, так как избегает открыто исповедовать Божество Духа. Григорий уверяет Василия в том, что он сам нисколько не сомневался в правильности тактики Василия: он понимает, что Василий не может открыто говорить о Божестве Духа, потому что за это он будет лишен кафедры. Тем не менее в конце письма Григорий обращается к Василию с многозначительным вопросом: «Ты же научи нас, о божественная и священная глава, до каких пределов позволительно нам простираться в богословии о Духе, какие употреблять выражения и до какой степени быть осторожными – чтобы все это иметь против критиков. Ибо если бы я потребовал объяснений для себя – я, который лучше всех знаю тебя и твои взгляды и неоднократно о них сам давал и получал удостоверение – то, конечно, я был бы самым невежественным и жалким человеком»[110]. Хотя Григорий и настаивает на том, что разъяснения нужны «критикам», а не ему, нельзя не услышать в этих словах его собственного недоумения по поводу умолчаний Василия, хотя и деликатно прикрытого риторическими фигурами.
Василий был не из тех, кого легко было ввести в заблуждение риторикой: он понял, что письмо Григория содержало замаскированный упрек в нерешительности, и оскорбился этим[111]. Однако он ответил со свойственной ему уравновешенностью, дав понять Григорию, что не намерен оправдываться ни перед ним, ни, тем более, перед своими противниками. Удивительно, пишет Василий, не то, что какие-то неофиты критикуют его, а то, что близкие друзья, которые имели достаточно случаев убедиться в его православии, прислушиваются к голосу этих неофитов. «Причина же этого в том, что… не встречаемся мы друг с другом; ибо если бы, как в прежних обстоятельствах… проводили мы вместе много времени в году, то не дали бы доступа к себе клеветникам»[112].
Одно из писем Григория к Василию посвящено начавшемуся конфликту между последним и Анфимом Тианским[113]. Суть конфликта заключалась в следующем. Когда в 371 году император Валент по экономическим и финансовым соображениям разделил Каппадокию на две области, город Тиана стал столицей второй Каппадокии. В связи с этим епископ Тианский Анфим, прежде подчинявшийся Василию, стал самостоятельным митрополитом, поскольку его кафедра получила значение столичной. Василий, не согласный с такими переменами, объявил войну Анфиму. Эта война носила церковно-политический характер: нет достоверных сведений о том, чтобы Анфим был арианином и чтобы между двумя епископами были разногласия на богословской почве. Первым делом Василий решил создать новые епископские кафедры на территории, вошедшей в юрисдикцию Анфима, и рукоположить на них своих сторонников. Одним из городов, где Василий создал такую кафедру, стали Сасимы: епископом этого города он назначил своего друга Григория.
Епископская хиротония Григория – один из самых тяжелых эпизодов в его жизни, о котором он не мог вспоминать без глубокого сожаления. Рукоположив Григория для несуществующей кафедры, Василий не только окончательно лишил своего друга безмолвия и «философской» жизни: он навсегда лишил его права стать законным епископом где бы то ни было, так как, согласно церковным канонам, действовавшим в ту эпоху, епископ одного города не мог принимать на себя управление церковью другого города. Читая жалобы Григория на свою судьбу, мы опять невольно задаемся вопросом: что заставило его согласиться на еще одно «насилие» и принять хиротонию, которая противоречила его устремлениям? Григорий отчасти дает ответ на это в Слове 10-м, произнесенном в присутствии Василия Великого и Григория Назианзина-старшего:
Нет ничего более сильного, чем старость, и более уважаемого, чем дружба. Ими приведен к вам я, узник во Христе, скованный не железными кандалами, но нерасторжимыми узами Духа. До сих пор считал я себя крепким и непреодолимым, и… чтобы только не иметь забот и философствовать в безмолвии, я все предоставлял желающим, беседуя с самим собой и с Духом… А что теперь? Дружба преодолела меня, и седина отца покорила меня…[114]
Итак, уважение к отцу и любовь к Василию заставили Григория подчиниться и принять рукоположение. Вероятно, в момент хиротонии он не осознавал, что ждет его в ближайшем будущем: Слово 9-е, написанное по случаю рукополо жения, дышит спокойствием перед лицом совершившегося факта; посетовав на «насилие», Григорий все же выражает готовность нести вверенное ему служение. Понимание всей трагичности собственной ситуации пришло к нему позже, когда он увидел, что овладеть Сасимами сможет не иначе, как вооруженным путем: Анфим поставил на дороге в Сасимы отряд воинов, который должен был воспрепятствовать въезду Григория в город. Когда Григорий понял, что стал жертвой церковной интриги и что его лучший друг подставил его под удар, его возмущение было велико. Во всем происшествии он увидел прежде всего следствие гордости Василия, который, получив архиерейскую кафедру, забыл о законах дружбы:
Тогда… пришел к нам возлюбленнейший из друзей,
Василий – со скорбью говорю, однако же скажу –
Мой второй отец, еще более тягостный.
Одного надо было переносить, хотя он и поступал со мной тиранически[115],
Но не было нужды терпеть от другого ради дружбы,
Приносившей мне вред, а не освобождение от зол.
Не знаю, самого ли себя, исполненного грехов…
Обвинять за случившееся – оно все еще, как недавнее,
Приводит меня в волнение, – или обвинить твою гордыню,
До которой довел тебя престол, о благороднейший из людей?..
Что же случилось с тобой? За что вдруг так далеко
Отбросил ты нас? Да погибнет в этой жизни
Закон дружбы, которая так уважает друзей!
Вчера были мы львами, а теперь
Я стал обезьяной, а ты почти что лев.
Если бы даже и на всех своих друзей –
скажу высокомерное слово! –
Так смотрел ты, то и тогда не следовало бы так смотреть на меня,
Которого когда-то ставил ты выше прочих друзей,
Пока не вознесся за облака и не стало все ниже тебя.
Почему волнуешься, душа моя? Удержи коня силою,
И пусть речь опять идет своим ходом. Этот человек
Стал лжецом – тот, кто во всем остальном был совершенно не лживым;
Много раз слышал он, как я говорил,
Что «надо пока все претерпевать, даже если что-либо худшее случится,
Но когда не станет на свете родителей,
Тогда у меня будут все причины оставить дела
И приобрести от бездомной жизни
То преимущество, что я стану гражданином всякого места».
Он слышал это и хвалил мое слово,
Однако же насильно возводит меня на епископский престол,
Вместе с отцом, который уже во второй раз запнул меня в этом[116].
Григорий не останавливается перед тем, чтобы обвинить своего друга во властолюбии и жадности. Главной причиной битвы за Сасимы, считает он, была не вера и не благочестие, а доходы, которых лишался Василий вместе с второй Каппадокией, отходившей к Анфиму. Описывая Сасимы, Григорий не жалеет красок, чтобы показать, сколь ничтожным и провинциальным было это селение. Ему ли – аристократу, поэту и философу – прозябать в таком скучном месте?
Есть какая-то станция на большой каппадокийской дороге: Там одна дорога делится на три;
Это место безводное, лишенное зелени, лишенное всех удобств,
Селение ужасно скучное и тесное.
Там всегда пыль, грохот повозок,
Слезы, рыдания, собиратели налогов, орудия пыток, цепи;
А народ там – чужеземцы и бродяги.
Такова церковь в моих Сасимах!
Вот какому городу отдал меня тот, кому пятидесяти хорепископов
Было мало – о, великодушие! –
И для того, чтобы удержать это за собою, когда другой
Отнимал насильно, он установил там новую кафедру…
Кроме всего прочего, что перечислено выше,
Овладеть этим престолом нельзя было без кровопролития:
О нем спорили два противоборствующих епископа,
Между которыми началась страшная война;
Причиной же было разделение отечества
На два города, которые стали главенствовать над меньшими городами.
Души (верующих) были лишь предлогом, истинной же причиной было властолюбие;
Не осмелюсь сказать – сборы и поборы,
От которых весь мир жалким образом колеблется.
Итак, как правильно было поступить перед Богом?
Терпеть? Принять все удары бедствий?
Идти, невзирая ни на что, увязнуть в болоте?
Идти туда, где не мог бы я упокоить и этой старости,
Всегда насильственно выгоняемый из-под крова,
Где не было бы у меня хлеба, чтобы преломить его с пришельцем,
Где я, нищий, принял бы в управление нищий народ?..
В чем-нибудь другом, если хочешь, требуй от меня великодушия,
А это предложи тем, кто поумнее меня!
Вот что принесли мне Афины, совместные занятия словесностью,
Жизнь под одной крышей, хлеб с одного стола,
Один ум в обоих, а не два, удивление Эллады
И взаимные обещания как можно дальше отринуть от себя мир,
А самим жить общей жизнью для Бога,
Словесность же принести в дар единому мудрому Слову!
Все рассыпалось! Все брошено на землю!
Ветры уносят старые надежды!
Куда бежать? Хищные звери, не примете ли вы меня?
У них больше верности, как мне кажется[117].
Итак, Григорию не было места в Сасимах. Не пожелав вступать в войну с Анфимом, он вообще не прикоснулся к своей епархии, не совершил там ни одной службы, не рукоположил ни одного клирика[118]. Нетрудно догадаться, что он сделал немедленно после своей хиротонии: ушел в пустыню и предался безмолвию, на этот раз без Василия. Из уединения Григорий посылает Василию письма, исполненные горечи и желчи: