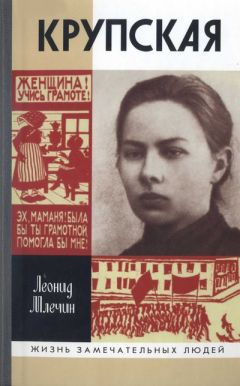Потом он ездил ко мне в Уфу попрощаться. Он рассказывал о том, что ему удалось сделать за это время, рассказывал про людей, с которыми приходилось встречаться. Конечно, по случаю приезда Владимира Ильича был ряд собраний. Помню, как, когда выяснилось, что Леонович, считавший себя народовольцем, не знает даже по названию группы «Освобождение труда». Владимир Ильич вскипел: «Да разве революционер может не знать этого, раз в- он может сознательно выбрать партию, с которой будет работать, если не знает, не изучит того, что писала группа «Освобождение труда»».
Кажется, около недели прожил тогда в Уфе Владимир Ильич[41].
Из-за границы он писал мне преимущественно в книжках, отправляемых на адреса различных земцев. В общем дело шло с газетой не так быстро, как этого хотелось Владимиру Ильичу; трудно было столковаться с Плехановым, и письма Владимира Ильича из-за границы были кратки, невеселы, кончались: «расскажу, когда приедешь», «о конфликте с Плехановым подробно записал для тебя»[42].
Еле дождалась я конца ссылки[43], а тут и писем что-то от Владимира Ильича долго не было.
Хотела ехать в Астрахань, к Дяденьке (Л. М. Книпович), да заторопилась.
Заезжали с мамой в Москву к Марии Александровне – матери Владимира Ильича. Она тогда одна в Москве была: Мария Ильинична сидела, Анна Ильинична была за границей.
Марию Александровну я очень любила, – она такая чуткая и внимательная была всегда[44]. Владимир Ильич страшно любил мать. «У ней громадная сила воли, – сказал он мне как-то, – если бы с братом это случилось, когда отец был жив, не знаю, что бы и было».
Свою силу воли Владимир Ильич унаследовал от матери, унаследовал также и ее чуткость, внимание к людям.
Когда жили за границей, я старалась описать ей как можно живее нашу жизнь, чтобы почувствовала она хоть немного близость сына. Когда Владимир Ильич был в ссылке в 1897 г., еще до моего приезда, в газетах было помешено объявление о смерти Марии Александровны Ульяновой, умершей в Москве. Оскар рассказывал: «Пришел к Владимиру Ильичу, а он бледный, как полотно, – говорит: мать у меня умерла». О смерти какой-то другой М.А. Ульяновой оказалось извещение.
Много горя выпало на долю Марии Александровны: казнь старшего сына, смерть дочери Ольги, бесконечные аресты других детей.
Заболел Владимир Ильич в 1895 г. – она тотчас же приезжает и отхаживает его, сама готовит ему пищу; арестуют его – она опять на посту, часами просиживает в полутемной приемной Дома предварительного заключения, ходит на свидания, носит передачи, и только чуть-чуть дрожит у нее голова.
Обещала я ей беречь Владимира Ильича, да не уберегла…
Из Москвы отвезла я свою мать в Питер, устроила ее там, а сама покатила за границу. По-пошехонски ехала. Направилась в Прагу, полагая, что Владимир Ильич живет в Праге под фамилией Модрачек.
Дала телеграмму. Приехала в Прагу – никто не встречает. Подождала-подождала. С большим смущением наняла извозчика в цилиндре, нагрузила на него свои корзины, поехали. Приезжаем в рабочий квартал, узкий переулок, громадный дом, из окон которого во множестве торчат проветривающиеся перины…
Лечу на четвертый этаж. Дверь отворяет беленькая чешка. Я твержу: «Модрачек, герр Модрачек». Выходит рабочий, говорит: «Я – Модрачек». Ошеломленная, я мямлю: «Нет, это мой муж». Модрачек, наконец, догадывается. «Ах, вы, вероятно, жена герра Ритмейера, он живет в Мюнхене, но пересылал вам в Уфу через меня книги и письма». Модрачек провозился со мной целый день, я ему рассказала про русское движение, он мне – про австрийское, жена его показывала мне связанные ею прошивки и кормила чешскими клецками.
Приехав в Мюнхен – ехала я в теплой шубе, а в это время в Мюнхене уж в одних платьях все ходили[45], – наученная опытом, сдала корзины на хранение на вокзале, поехала в трамвае разыскивать Ритмейера. Отыскала дом, квартира № 1 оказалась пивной. Подхожу к стойке, за которой стоял толстенный немец, и робко спрашиваю господина Ритмейера, предчувствуя, что опять что-то не то.
Трактирщик отвечает: «Это – я».
Совершенно убитая, я лепечу: «Нет, это мой муж».
И стоим дураками друг против друга. Наконец, приходит жена Ритмейера и, взглянув на меня, догадывается: «Ах, это верно жена герра Мейера, он ждет жену из Сибири. Я провожу».
Иду куда-то за фрау Ритмейер на задний двор большого дома, в какую-то необитаемую квартиру. Отворяется дверь, сидят за столом: Владимир Ильич, Мартов и Анна Ильинична. Забыв поблагодарить хозяйку, я стала ругаться: «Фу, черт, что ж ты не написал, где тебя найти?»
«Как не написал? Я тебя по три раза на день ходил встречать. Откуда ты?» Оказалось потом, что земец, на имя которого была послана книжка с адресом, зачитал книжку.
Немало россиян путешествовали потом в том же стиле: Шляпников заехал в первый раз вместо Женевы в Геную; Бабушкин вместо Лондона чуть не угодил в Америку.
Хотя и Владимир Ильич, и Мартов, и Потресов поехали за границу по легальным паспортам, но в Мюнхене было решено жить по чужим паспортам, вдали от русской колонии, чтобы не проваливать приезжающих из России работников и легче отправлять нелегальную литературу в Россию в чемоданах, письмах и пр.
Когда я приехала в Мюнхен, Владимир Ильич жил без прописки у этого самого Ритмейера, назывался Мейером. Хотя Ритмейер и был содержателем пивной, но был социал-демократом и укрывал Владимира Ильича в своей квартире. Комнатешка у Владимира Ильича была плохонькая, жил он на холостяцкую ногу, обедал у какой-то немки, которая угощала его Mehlsрeise[46]. Утром и вечером пил чай из жестяной кружки, которую сам тщательно мыл и вешал на гвоздь около крана.
Вид у него был озабоченный, все налаживалось не так быстро, как хотелось. В то время в Мюнхене, кроме Владимира Ильича, жили: Мартов, Потресов и Засулич. Плеханову и Аксельроду хотелось, чтобы газета выходила где-нибудь в Швейцарии, под их непосредственным руководством. Они, в первое время и Засулич, не придавали особого значения «Искре», совершенно недооценивали той организующей роли, которую она могла сыграть и сыграла; их гораздо больше интересовала «Заря».
«Глупая ваша «Искра», – говорила вначале шутя Вера Ивановна. Это, конечно, была шутка, но в ней сквозила известная недооценка всего предприятия. Владимир Ильич думал, что надо, чтобы «Искра» была в стороне от эмигрантского центра, чтобы она была законспирирована, что имело громадное значение для сношений с Россией, для переписки, для приездов. Старики готовы были видеть в этом нежелании перенести газету в Швейцарию нежелание руководства, желание вести какую-то свою линию и не торопились особенно помогать. Владимир Ильич это чувствовал и нервничал. К группе «Освобождение труда» у него было совсем особенное чувство. Я не говорю уже про Плеханова, он относился влюбленно и к Аксельроду и к Засулич. «Вот ты увидишь Веру Ивановну, – сказал мне Владимир Ильич в первый вечер моего приезда в Мюнхен, – это кристально-чистый человек». Да, это была правда.
Вера Ивановна одна из группы «Освобождение труда» стала близко к «Искре». Она жила вместе с нами в Мюнхене и в Лондоне, жила жизнью редакции «Искры», ее радостями и горестями, жила вестями из России.
«А «Искра»-то важная становится», – шутила она по мере того, как росло и ширилось влияние «Искры». Вера Ивановна рассказывала не раз про долгие холодные годы эмиграции.
Мы никогда такой эмиграции, как группа «Освобождение труда», не знавали – у нас все время были самые тесные связи с Россией, постоянно к нам приезжали оттуда люди. Мы жили в эмиграции в гораздо лучших условиях по части осведомленности, чем в каком-либо другом губернском городе, жили исключительно интересами русской работы, дело в России шло на подъем, рабочее движение росло. Группа «Освобождение труда» жила от России оторванно, жила за границей в годы глухой реакции – заезжий из России студент был уже целым событием, но заезжать опасались: когда к ним в начале 90-х годов заехали Классон и Коробко, их тотчас же по возвращении вызвали в жандармское, спрашивали, зачем ездили к Плеханову. Слежка была организована образцово.
Из всех членов группы «Освобождение труда» Вера Ивановна чувствовала себя наиболее одиноко. У Плеханова и Аксельрода была все же семья. Вера Ивановна говорила не раз о своем одиночестве: «Близких никого нет у меня», и тотчас старалась прикрывать горечь своих переживаний шуточкой: «Ну вот, вы меня любите, я шаю, а когда умру, разве что одной чашкой чаю меньше выпьете».
Потребность же в семье у ней была громадная – может быть, потому, что выросла она в чужой семье, была на положении «воспитанницы». Надо было только видеть, как любовно она возилась с беленьким малышом, сынишкой Димки (сестры П.Г. Смидовича). Даже хозяйственность Вера Ивановна проявляла, заботливо покупала провизию в те дни, когда была ее очередь варить обед в коммуне (в Лондоне Вера Ивановна, Мартов и Алексеев жили коммуной). Впрочем, мало кто догадывался о семейственных и хозяйственных склонностях Веры Ивановны. Жила она по-нигилистячему – одевалась небрежно, курила без конца, в комнате ее царил невероятный беспорядок, убирать свою комнату она никому не разрешала. Кормилась довольно фантастически. Помню, как она раз жарила себе мясо на керосинке, отстригала от него кусочки ножницами и ела.