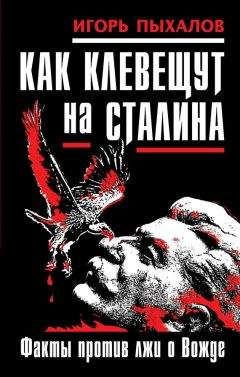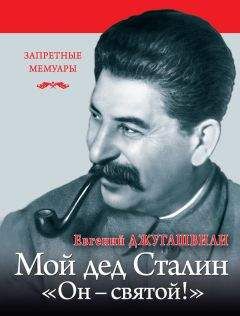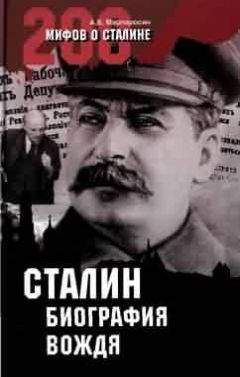Ранее она утверждала, что дочь свою родила от того самого американца, а теперь вдруг заявляет такое! Да еще и подписку о неразглашении государственной тайны выдумала!
Хозяин поспешил увести ее в другую комнату, где уложил спать. Один из гостей высказался в том смысле, что, дескать, Сталин из прихоти сломал жизнь человеку. Я не выдержала (сказать мне хотелось много, да всего не скажешь) и заметила, что жизнь этой глупой и бессовестной женщине сломали водка, легкомыслие и жадность. Пока она не связалась с иностранной разведкой, у нее не было поводов жаловаться на жизнь. Она была известна, имела награды (орден, две Сталинские премии). При чем тут Сталин? Да разве бы стал Он, прекрасно разбиравшийся в людях, приближать к себе такую особу? Пьющую водку бокалами? Напивающуюся до свинского состояния? Уж мне ли не знать, как Сталин относился к тем, кто терял ум от пьянства. Он таких людей презирал, говорил: «Кто пьян да глуп, того больше бьют». Как можно опуститься до такой бессовестной лжи? Как можно менять отцов своей дочери словно перчатки? У нее же есть настоящий, законный отец. Приятно ли ему, приятно ли дочери слышать такое? Ведь кто-то непременно постарается, донесет, расскажет. А может, она и дома городит всю эту чушь, с нее станется.
Возмутительный, неприятный случай. Вечер был испорчен. Но больше всего меня в этой грязной лжи возмутила подписка о неразглашении государственной тайны. Бред! Сущий бред! Любовь не требует никаких подписок! Чего только не выдумают люди! И сколько такой вот чуши сейчас рассказывают про Него!
Наши встречи были нерегулярными. Мы могли несколько раз встречаться через день, а затем не встречаться месяц или больше. Иначе и быть не могло, ведь оба мы были очень занятыми людьми, хотя моя занятость не шла ни в какое сравнение с Его занятостью. У меня были съемки, репетиции, концерты — дела важные, но относительно небольшого масштаба. Судьба страны не зависела от моих решений. Уровень ответственности был несопоставим.
Я все понимала и не волновалась, когда в наших встречах наступал «продолжительный антракт». Понимала, что меня не забыли, понимала, что дела мешают нашим встречам. Скучала, конечно, и радовалась, когда раздавался долгожданный звонок. Наши встречи обычно происходили поздно вечером. «Поздно вечером» — с моей точки зрения, другие люди называют это время «глубокой ночью». Нескольких часов мне было мало. Очень хотелось провести вместе с Ним несколько дней, недель (на месяцы я даже в мечтах не замахивалась). Хотелось морского берега, долгих прогулок, неспешных бесед. Но, к сожалению, все это было неосуществимо. Ревновала ли я Его к работе? Никогда. Я все понимала. Я же не дура. Было очень приятно слышать, когда Он говорил, что в моем обществе не просто отдыхает, а начинает чувствовать себя молодым. Сталин не был щедр на комплименты, но зато ценность его комплиментов была огромна. От постоянного ношения изнашиваются не только одежда и обувь, но и слова. Комплименты, произносимые часто, становятся привычными, обыденными и уже совершенно не радуют. Или радуют, но очень мало.
Я была счастлива, и воспоминания об этом счастье согревают меня до сих пор.
* * *
Иногда Сталин пребывал не просто в хорошем, а в необыкновенно приподнятом настроении. К слову сказать, угнетенным, грустным я не видела его никогда. Он был настоящим мужчиной, а мужчинам не пристало распускаться. Да и женщинам, кстати говоря, тоже не стоит этого делать. Как бы плохо тебе ни было, бодрись! Соберись с силами и держи голову высоко. Стоит только опустить руки, как… Но я хочу написать не об этом, а о том, что в этом самом необыкновенно приподнятом настроении он любил петь. Не могу сказать, что пение его было оперным, но оно брало за душу своей искренностью. Он пел разные песни, русские и грузинские, знал их много, но мне больше нравились грузинские. Я любила, слушая пение, по голосу, по мелодии, по выражению лица догадываться о смысле песни. Он знал эту мою привычку и иногда подшучивал надо мной. Нарочно пел какую-нибудь веселую застольную песню на грустный лад и спрашивал:
— О чем я сейчас пел?
— О разлуке, — отвечала я, введенная в заблуждение грустной мелодией.
Грузинский язык очень «песенный», мелодичный. Наверное, поэтому грузины так любят петь.
— Какая разлука? — улыбался он. — Это песня о том, как весело пировать с друзьями. Послушай-ка другую…
И пел что-то бодрое, веселое.
— Это тоже, наверное, про пир с друзьями, — «угадывала» я.
— Нет. Девушка просит ласточку принести весть об ушедшем на войну брате.
Его очень забавляла эта игра. Он даже сделал из нее нечто вроде поговорки. Говоря о чем-то, суть чего оставалась неясной, вставлял: «Это все равно что угадывать смысл песни, не зная языка».
Несколько грузинских слов и выражений я выучила. Могу поздороваться, поблагодарить. Могу даже объясниться в любви, только вот кому?
* * *
Ревность была несвойственна Сталину совершенно. Когда я говорю о ревности, то не имею в виду какие-то дикие сцены, несправедливые обвинения, буйство страстей, иначе говоря, то, что Немирович-Данченко называл «отелловщиной». Нет, я имею в виду гораздо более сдержанные чувства, свойственные, наверное, каждому из нас. Ты любишь и не хочешь делить любимого человека ни с кем. Больно даже подумать об этом. Внезапные изменения планов, какие-то необъясненные отлучки, все непонятное волнует тебя, настораживает, заставляет задуматься. Ревность — это беспокойство, которое все равно проглянет, как ты его ни скрывай. Ревность проявляется во взглядах, в жестах, в голосе. Ревность очень легко изображать на сцене. Во-первых, потому что она многогранна, есть что играть, а во-вторых, находит горячий отклик у зрителей. Все мы ревнивцы, все мы ревнуем, только большинство из нас не дают своей ревности волю. Но желание того, чтобы любимый человек принадлежал тебе и только тебе, свойственно всем нам. Мой первый муж был крайне сдержанным человеком («холодная балтийская кровь», говорил он о себе), он всячески скрывал свою ревность, но она так и сквозила во взгляде. Легко читалась. Актриса, сама того не желая, дает множество поводов для ревности. Особенно если речь идет об оперетте. Легкий жанр, легкие настроения, легкость чувств. Выступления, поклонники, цветы… Он сам познакомился со мной в театре — пришел после спектакля в гримерную, чтобы выразить восхищение моей игрой. Слово за слово, улыбка в ответ на улыбку, так и состоялось наше знакомство, и его всегда терзала мысль о том, что кто-то другой столь же легко может со мной познакомиться. Я объясняла, что познакомиться, в сущности, несложно, но дело не в самом факте знакомства, а в том, к чему это знакомство приведет, во что оно выльется. Мало ли у меня знакомых! Он соглашался, говорил, что верит мне, что любит меня, но в глубине его красивых глаз таилось страдание. Я так жалела его, так страдала, оттого что он ревнует меня! Находить утешение в пошлой поговорке «ревнует — значит любит» я не могла. Глупо. Я его любила, а когда любишь, то и радость, и страдание любимого человека воспринимаются как свои собственные.