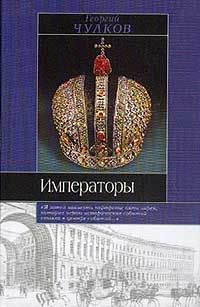Жизнь Павла протекала в семейном быте, в политическом бездействии, не лишенном, однако, острого и враждебного внимания к государственным делам. Своими мрачными впечатлениями от политики Екатерины он откровенно делился с Н. И. Паниным, и они единодушно осуждали большой двор, где, по выражению Павла, "боятся нестрашного и смеются несмешному". Весной 1777 года великая княгиня забеременела. Осенью пришлось переехать в Зимний дворец, покинув Павловск, который был подарен Екатериной молодым супругам. Они уезжали в меланхолии, как будто предчувствуя, что там, в Петербурге, их ожидает что-нибудь недоброе. В самом деле в эту осень постигло столицу ужасное бедствие: приезд великокняжеской четы совпал с самым страшным в летописях Петербурга наводнением. Суеверный Павел в ужасе смотрел на огромные пасти волн, готовые поглотить все на их пути. Ему казалось, что эта темная стихия угрожает безбожному городу, мстя за преступления коронованных убийц.
Едва потускнело в душе Павла мучительное впечатление от буйства непокорной Невы, как на его долю выпало новое испытание. На этот раз в нем был оскорблен не почтительный сын, не ревнивый любовник, не претендент на престол, а муж, отец и семьянин. Когда 12 декабря 1777 года родился в семье цесаревича столь желанный им сын Александр, этот младенец был по требованию императрицы отнят от матери и отца и отдан на попечение особых воспитательниц, назначенных Екатериной. В известные сроки разрешалось Марии Федоровне навещать ребенка, но ни ей, ни Павлу не доверяли воспитание будущего, императора. Екатерина, очевидно, тогда уже рассчитывала подготовить ребенка к судьбе престолонаследника. Так отняты были от родителей все их дети — Александр, Константин, Николай. Той же участи подверглись и дочери Павла. Он должен был покорствовать, стиснув зубы, затаив мучительное чувство. Одного этого испытания было бы достаточно для того, чтобы потерять душевное равновесие. И Павел все менее и менее владел собой.
В 1780 году политика Екатерины определилась очень твердо. Русское правительство порвало связь с Пруссией и сблизилось с Австрией. С таким направлением нашей дипломатии Павлу трудно было мириться. Но Екатерина была непреклонна. В конце 1781 года, в связи с новой политической программой, у Екатерины явился план отправить великокняжескую чету за границу. Согласно ее программе, Павел должен был посетить Австрию, Италию и Францию. Берлин, о котором мечтал Павел, в маршрут цесаревича не вошел. И на этот раз Павел повиновался, не посмев настаивать на свидании с Фридрихом II.
Павел путешествовал под именем князя Северного. Европейские дворы встречали Павла с таким почетом, какого он не знал у себя в России. Это льстило ему и волновало его честолюбивое сердце. А между тем в Европе многие сознавали, как странно и двусмысленно положение великого князя. В придворном Венском театре предполагалось поставить "Гамлета", но актер Брокман отказался играть, сказав, что, по его мнению, трудно ставить на сцене "Гамлета", когда двойник датского принца будет смотреть спектакль из королевской ложи. Император Иосиф был в восторге от проницательности актера, и представление шекспировской трагедии не состоялось.
Из Вены Павел с женой поехал в Италию. Он посетил Венецию, Падую, Флоренцию, Болонью, Анкону, Рим, Неаполь. В Неаполе он встретился с обольстителем своей первой жены. Разумовский был там нашим послом. В это время он находился в связи с королевой неаполитанской. Рассказывают, что, увидев своего оскорбителя, Павел будто бы обнажил шпагу и предложил ему поединок, который не состоялся благодаря вмешательству свиты. В Риме у Павла было несколько свиданий с Пием VI. Во Флоренции в страстном порыве Павел не удержался от резких порицаний екатерининских фаворитов. Путешественники побывали в Ливорно, Парме, Милане и Турине. Оттуда через Лион князь Северный со свитой поехал в Париж. Это был канун Большой Французской революции.
Совершая свою поездку от Лиона до Парижа, будущий император России не мог не видеть резких контрастов сельской жизни. Пышные шато дворян, епископов, откупщиков и нищие, крытые соломой хижины крестьян и фермеров красноречиво говорили о том, что не все благополучно в этой "прекрасной Франции". Правда, глаз будущего властелина мог уже привыкнуть к подобным контрастам и в тогдашней России, но там многомиллионное население дремало и лишь изредка дико кричало в кошмарном сне какой-нибудь пугачевщины. Здесь, во Франции, мятежи стали явлением обычным и вошли в традицию. В одной Нормандии, как точно сообщил один кавалер Павлу, бунты из-за хлеба отметили собою ряд лет — 1725, 1737, 1739, 1752, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 и так далее и так далее. Чем ближе к дням кроткого Напета, тем чаще вспыхивали эти огни, освещавшие сумерки обреченной на гибель ветхой государственности.
Когда Павел со свитой останавливался в городах и селениях, к его удовольствию, он ни в чем не чувствовал недостатка. Он был окружен комфортом, который казался глазевшим на него крестьянам непростительной роскошью и бесстыдной расточительностью. Крестьяне не могли думать иначе. Как раз в этом году в равнине Тулузы они не ели ничего, кроме маиса, и то в небольшом количестве; в других местностях сельскому населению приходилось еще хуже — даже каштаны и гречиха считались лакомством. В Лимуссене питались репой; в Оверни — смесью ячменя и ржи. Крестьяне почти не видели хорошего пшеничного хлеба.
Павел, интересовавшийся армией прежде всего, не мог не обратить внимания на то, что из девяноста миллионов, которые тратила казна Людовика XVI на содержание армии, сорок шесть шло на офицеров и лишь сорок четыре на солдат. Если принять во внимание, что на каждого офицера приходилось до пятидесяти и более нижних чинов, то становится очевидной безобразная несправедливость в распределении государственных средств. Павлу казалось, что система эта напоминает порядки Екатерины. В народе слагались легенды, также иногда похожие на наши российские мифы о народном царе. Этими легендами охотно пользовались во время мятежей, приписывая королям то, что у нас мужики приписывали царю. "Крестьяне все время говорят, что у нас грабежи и разрушения, которые они учиняют, соответствуют желанию короля".
"В Оверни крестьяне, сжигающие замки, выказывают большое отвращение к подобному плохому обращению "с такими хорошими господами": они ссылаются на то, что ничего не поделаешь — "приказ непреклонен и они имеют уведомление, что его величество так хочет". Лет через десять легенда о народолюбивом короле была разоблачена, но тогда еще пользовались ею, крича: "Долой подати и налоги! Долой привилегированных!" "Грабили магазины, рынки, замки, сжигали списки недоимщиков, счетные книги, думские архивы, помещичьи библиотеки, монастырские пергаменты — все подлые бумаги, которые создают повсюду несчастных и угнетенных".