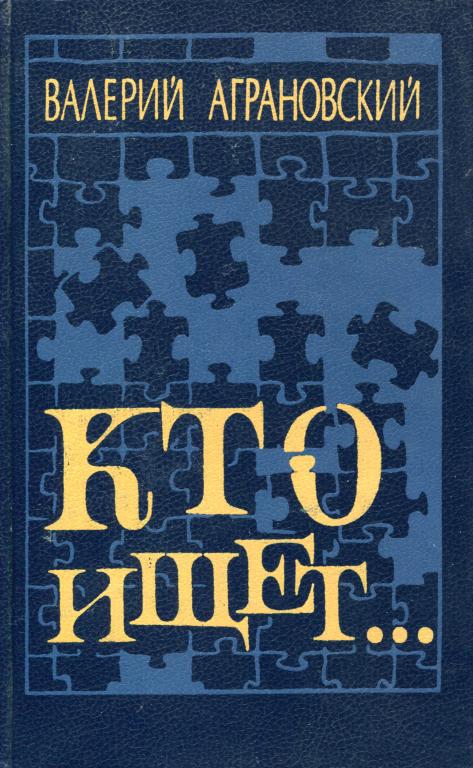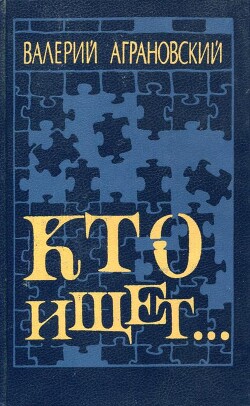у вас ресторан?» — и был потрясен, узнав, что ближе Областного официанток он теперь не увидит. Гурышева еще в Киеве угораздило посмотреть михалковский «Фитиль», в котором рассказывалось, что по какому-то головотяпству на Крайний Север завезли мотоциклетные шлемы и дамские купальники, хотя, как утверждал «Фитиль», по тундре не ездят на мотоциклах и в тундре не купаются. Оказавшись в Районном, Гурышев зашел в универмаг и ради интереса попросил у продавщицы купальник и шлем. Та вытаращила на Алешу глаза. Кстати, насчет купания «Фитиль» тоже загнул: всей компанией они не раз купались в лимане в момент отлива, когда прогретая солнцем речная вода еще не успевала смешаться с холодными морскими массами.
Карпов говорил: «Скандал — пройдет, праздник — пройдет, разгрузка парохода — пройдет, и все без меня. А науку кто без меня делать будет?» Это был его главный принцип, из-за которого Гурышев называл Карпова «заживо погребенным», но принцип этот не противоречил тем не менее общему отношению мерзлотоведов к поселку и его жителям. Бывало, когда начиналась навигация, в районе объявлялся аврал, и все население выходило на разгрузку, и даже поселковый хирург со своими золотыми руками становился в цепь (правда, сам председатель исполкома Евгений Мефодьевич Грушин лично следил за тем, чтобы врач работал в перчатках), сотрудники «мерзлотки», в том числе и мэнээсы, продолжали «делать науку». Одна лишь Марина Григо со своими лекциями в клубе и школьным хореографическим кружком «прорубала окно в Европу», как говорил по этому поводу Гурышев.
«Женский вопрос» решался мужчинами так. Для Карпова он вообще не существовал, потому что ему и тут было некогда, кроме того, он ждал приезда невесты. Алеша Гурышев страстно мечтал с кем-нибудь познакомиться, нарисовал в своем воображении идеал, отталкиваясь от литературных источников, и издавал томные восклицания типа «о!» и «а!», но был излишне наивен и мечтателен, меж тем как девушки на Севере предпочитали простоту и ясность намерений. Рыкчун, наоборот, отличался практичностью. Марина Григо, возвращаясь однажды из Областного, где была в командировке, еще в аэропорту узнала, что Вадим нашел себе в поселке «дульцинею». Действительно, вскоре, держа бороду развернутым знаменем, он привел ее на общую вечеринку — пухленькую и глупенькую, как показалось Марине. В следующий раз Рыкчун привел другую «дульцинею», потом третью, и Гурышев тут же назвал его Дон Кихотом-многостаночником, а Вадим проорал Марине, что во всем виновата она, так как совершенно не обращает на него внимания. Марина ухитрилась даже этот крик пропустить мимо ушей.
Они часто собирались — одни, своей маленькой компанией. Какие только разговоры не ходили по станции и по поселку в связи с этими «сборищами»! Секретарь райкома комсомола, которого звали Борей Корниловым, хорошенький мальчик с внимательными нежными глазами, решил однажды лично удостовериться и, встретив как-то Марину, попросил разрешения прийти к ней в гости. «А приходи!» — сказала Марина. Вечером он явился в галстуке и с запонками на манжетах белой рубашки. А у Марины была вся компания, сидели в растерзанном виде, стоял жуткий крик: «Развитие личности — это цель общества или средство, с помощью которого общество заботится о своем собственном развитии? Конкуренция — лучше или хуже соревнования? Гуманно ли сохранять жизнь родившимся уродам? Можно ли жить без веры, а если с верой — то во что?» Секретарь сел в уголок, долго молчал, слушал, потом тихо встал и ушел. Придя домой, сказал своей жене Люде: «Представляешь, ни грамма водки! Как у баптистов!»
Но иногда они валяли дурака в прямом смысле слова: возились, устраивали кучу-малу, играли в пантомимы, бузили. Марина Григо любила сказки. У детей механика Петровича, а их было без счета, имелся фильмоскоп. Мэнээсы это знали, и вот однажды, когда возникло подозрение на дифтерит и детей увезли в больницу, они выкрали заветный аппарат, расселись в комнате Марины на полу и до поздней ночи крутили двенадцать фильмов-сказок. Их считали на работе взрослыми, и счет к ним был как к взрослым, но если бы кто из начальства увидел их в этот момент, за конфликт, бурно развившийся впоследствии, их просто бы выпороли.
Они по-стариковски были ласковы друг с другом. Обнять, поцеловать — это делалось запросто, при посторонних и без всяких задних мыслей, как проявление доброты, расположения, внимательности. Собравшись, чтобы кого-то послушать или о чем-то поговорить, они всем скопом устраивались на постели, и вот, бывало, пурга за окном, ночь, холод, а у них — сказки, или стр-р-рашные истории, или «Лунная» Бетховена, или Твен с Гашеком, выдаваемые наизусть Алешей Гурышевым, или просто тишина — и свечи.
Рыкчун при Марине часто замыкался и молчал, а потом «раскалывался», после ухода ребят, оставшись у Григо до утра, — болезненно, с надрывом, с выворачиванием души наизнанку. Север суров, отсюда — нервы.
Довольно долго они не могли привыкнуть к смещению времени. Не только в прямом смысле этого слова, ведь разница с Москвой была в шесть часов, а, как бы это выразиться, в смысле философском. Я вот что имею в виду. Однажды Диаров сказал им, что недавно в этих местах рос грецкий орех, и продемонстрировал в доказательство остатки ореха, найденного на берегу мыса Обсервации. «Недавно» прозвучало для них не более как «до революции», и уж никто не мог себе представить, что это было пятьсот тысяч лет назад, задолго до Великого похолодания, когда в Антарктиде были тропические леса, которым еще предстояло стать каменным углем, а в Якутии жили страусы, там и сегодня еще находят страусиные яйца. Но людям, имеющим дело с вечной мерзлотой, пора было привыкать к иным измерениям времени, к иным представлениям о прошлом и будущем. Есть старая индийская легенда об алмазной скале, на которую раз в сто лет прилетает птица, чтобы почистить клюв, и вот когда она сотрет скалу до основания, пройдет секунда вечности. Вы можете, читатель, представить — ладно, не зримо, а хотя бы мысленно — эту секунду? Я не могу. Но ученым-мерзлотоведам, оперирующим в своей науке тысячелетиями, надо уметь.
«Боже мой, — думал я, — ну что такое их конфликт в сравнении с секундой вечности!»
Впервые собравшись в поле, Алеша Гурышев взял ружье, сел на крышу вездехода и спросил Рыкчуна, которого считал старожилом: «Вадька, это верно, что тут медведи за каждым деревом?» — «Дурак, — сказал Вадим, — где ты видел в тундре деревья?» — «Это я образно…» — смутился Гурышев.
Однако и «старожил» Рыкчун еще не знал в ту пору, что, встретившись со зверем, надо удирать от него вверх по склону горы, потому что медведя под его собственной тяжестью будет тянуть вниз, и тогда он