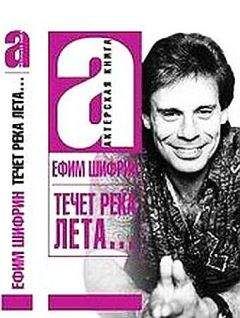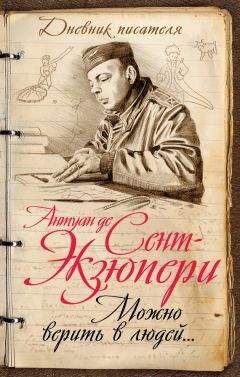Дама, задержавшая меня у дверей, просила подписать заявление в защиту нынешнего ДЭЗа. Я вынимал из почтового ящика уже с полсотни подобных бумаг: сторонники кондоминимума присылали воззвания с буквицей в виде картинки главного корпуса, а внуки большевиков совали строгие прокламации с призывами дать отпор Товариществу Собственников Жилья.
Едва я переступил порог квартиры, как позвонил мой сосед сверху.
— Юрий Афанасьевич, я здесь ненадолго. Поверьте, я не знаю, кого нужно поддержать.
— Ефим, дорогой! Большинство против Товарищества. Можете поддержать большинство.
— Но я в этом ничего не понимаю. А если не поддерживать ни тех, ни других? Может быть, без меня все решится?
Я был тут же наказан за оппортунизм. Даже не успев раздеться, я снова побежал к телефону. Звонила супруга Ширвиндта.
— Господи… Наталья… Я забыл ваше отчество…
— Его легко запомнить. Меня зовут так же, как же жену Пушкина.
— Точно — Наталья Николаевна! Извините, Александр Анатольевич всегда говорит «Наташа», и я не никогда не знал как дальше…
Наталья Николаевна призналась, что, во-первых, она моя поклонница, во-вторых, я был прекрасен в цирке, а в-третьих… надо подписать бумагу против Товарищества собственников жилья.
Я повторил ей то, что уже успел сказать Юрию Афанасьевичу: про свой слабый общественный запал. Попросил объяснить, что нас, жильцов, ждет в случае, если не будет ДЭЗа. Наталья Николаевна сказала:
— Я — архитектор, я это прекрасно знаю. Мой внук живет в кондоминимуме и платит в 10 раз больше, чем мы.
— Понял, — сказал я. — Конечно, я подпишу бумагу против кондоминимума.
— Приходите к нам ужинать. …
— Ага, Александр Анатольевич любит только вареный лук и шпроты.
— Что вы! Я сама их терпеть не могу. Приходите, когда захотите… В любой вечер. Лука и шпрот не будет.
Забавно, что меня второй раз за последние дни приглашают на ужин те, в ком я души не чаю. Карцев, помнится, еще третьего дня зазывал меня на фаршированную рыбу.
— Она у меня уже вот здесь, — он подносил ребро ладони к подбородку. — Это такая рыба! Завтра приезжай! Хочешь — послезавтра! У нас этой фаршированной рыбы! — ладонь пронеслась кометой около лба.
Как жаль, что я к нему не поехал! Я упустил возможность провести вечер с тем, кем я заслушивался в поездах, на кого смотрел, затаив дыхание из темноты кулис, с кем мне всегда так хотелось сыграть что-нибудь вместе.
Может быть, самое памятное из того, что у меня никогда не сможет забрать коварная Лета — это веселые попойки в поездах, когда не хотелось спать, а хотелось только внимать своим веселым попутчикам, даже не веря до конца, что кумиры могут быть так близки и доступны.
Однажды мы всю ночь слушали великого Муслима. Под столиком громыхали две опорожненные бутылки водки, а на столе стояла третья, и Тамара Ильинична с бессмертным Чарликом на руках несколько раз уже пыталась вернуть в свое купе никак не хмелеющего мужа. А мы его все не отпускали. И снова слушали: про Брежнева, про иранского шаха, про кремлевские концерты.
От Ширвиндта всегда сводило живот. Но сам он редко улыбался.
— На вахте театра Сатиры когда-то служила колоритная еврейка. «Ширвиндт! красавчик!» — Александр Анатольевич преувеличенно картавит, показывая ее. — Она меня обожала. Можете себе представить… А это был, ты понимаешь, какой год. Ни черта не было. И кто-то оставил мне на служебном входе печенье для пса. Из-за границы. Печенье сейчас называется «Педигри». Но «Педигри» тогда не было. А был вот этот корм для собак. Закончился спектакль. Я иду к выходу. Вижу эту даму, еврейку. «Ширвиндт. Красавчик!» Улыбается мне во весь рот: «Вы меня простите! Ширвиндт! Вам здесь оставили печенье. Я не удержалась, попробовала. Ровно две штучки».
— Зря. Это печенье для собак!
И тут, смотри! Лицо меняется так, что становится страшно. Швыряет на пол эту коробку.
— Пгедупгеждать надо!!!
Понимаешь, «предупреждать»! Я должен был ей раньше сказать, что некрасиво пиздить!.
Однажды мы с Ширвиндтом отправились в Ленинград в составе жюри какого-то эстрадного конкурса. Весь путь как завороженный я пялился на него. Александр Анатольевич лениво цедил слова. Загробным голосом выделял репризы.
Как всегда, я хватался за живот и буквально падал от хохота.
Водка серьезно таяла после каждого мрачного тоста.
В Питере нас разместили в закрытой гостинице напротив Летнего сада.
Днем, по пути в ресторан, Ширвиндт, шатаясь, зашел в мой номер.
— Что это? — взгляд его тут же упал на большой пакет при входе.
— Да вот принесли… Вернее, передал охранник. Это гостинец от поклонницы… Морковка тертая, овес. Она собирает траву на даче. Лечится от всего.
— Серьезно? Натуропатка?
— Ага. Чистится все время. Йога. Уринотерапия.
Ширвиндт уже вертел в руках какую-то баночку.
Услышав про уринотерапию, он торжественно поднес баночку к глазам:
— Как ты думаешь, чем заправлен этот салат?..
11 октября 2007 г.
Сегодня я почувствовал завершенность осени, за которой, возможно, ничего не будет.
Объезжая пробки, мы застряли в переулке, который вдруг представился мне как тупик, из которого я никогда не смогу найти выхода. Промелькнувшая в сознании пленка запечатлела лишь обвальный листопад, завершившийся пустотой, процарапанной крестами и звездами. Я услышал дурацкую музыку неизбежного финала — стрекотание ленты и слабую дробь дождя.
Кажется, завис светофор.
Глядя на красный, я отгонял от себя мысль о том, что моим воскрешениям ведется счет. Я подумал, что "мой курсив" — это теперь самое важное, что, если бы мне выпал шанс пожить еще немножко, я бы заслужил встретить и тепло, и солнце, что я люблю их сильнее воспетого увядания осени, что я — человек весны, родившийся весною, не имею права покидать этот мир без следа, без причины, что я хочу и сумею дожить до весны!
Еще вчера я задумал открыть ники и буквы с точками, скрывающие фамилии героев моего дневника. Мне захотелось многое прояснить, сделать дневник удобным для чтения.