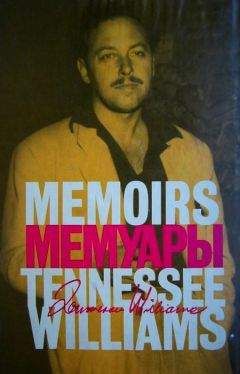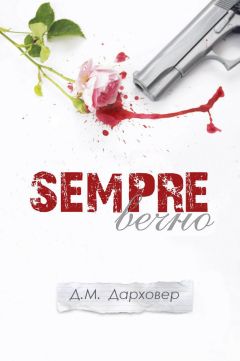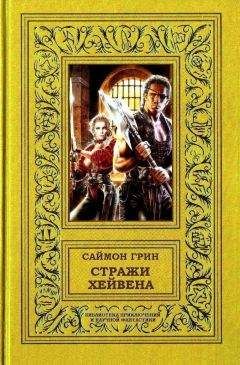Я обожал мисс Пинки. Даже моя болезненная застенчивость не мешала мне не бояться ее.
В первый день в море я впервые попробовал алкоголь. Это был зеленый мятный ликер, предложенный мне в баре на палубе.
Через полчаса я почувствовал ужасный приступ морской болезни и находился в этом состоянии целых пять дней путешествия — в каюте без иллюминатора и почти без всякой вентиляции — наша группа плыла не первым классом.
Среди пассажиров была учительница танцев, и самым счастливым временем моего первого пересечения Атлантики тем летом 1928 года, насколько мне помнится, было время, когда я с ней танцевал — особенно вальсы. Я в те дни был превосходным танцором, и мы «все плыли по полу: и плыли, и плыли», как это описала бы Зельда.
Учительница танцев была юной леди лет двадцати семи, и она получала большое удовольствие, открыто флиртуя с неким Кэптеном Де Во из нашей группы. Помню один таинственный ночной разговор. То есть, таинственным он был для меня, таинственным и тревожащим, и я помню его с необыкновенной ясностью.
Кэптену Де Во не нравилось, что я так много времени провожу с учительницей танцев. Однажды вечером мы все трое сидели за небольшим столиком в баре, дело было где-то ближе к концу путешествия, Кэптен посмотрел на меня и спросил у учительницы танцев: «Ты знаешь, что его ждет впереди?»
Она ответила: «В семнадцать ни в чем нельзя быть уверенным».
Вам, конечно, понятно, о чем они говорили, но в то время я был озадачен — по крайней мере, мне так казалось.
Мы приближаемся к началу самого ужасного, чуть не доведшего меня до сумасшествия, кризиса, случившегося со мной в те молодые годы. Боюсь, что охватить его полностью будет трудно.
Он начался, когда я один шел по бульвару в Париже. Я попытаюсь описать его, потому что он сыграл большую роль в моем психологическом состоянии. Внезапно мне стало ясно, что процесс мышления является ужасно сложной тайной человеческой жизни.
Я почувствовал, что иду все быстрее и быстрее, пытаясь опередить эту идею. Она уже превратилась в фобию. Я шел все быстрее, уже начал потеть, сердце тоже ускорялось и ускорялось, и к тому времени, когда я подошел к отелю «Рошамбо», где жила наша группа, я превратился в дрожащую, насквозь пропотевшую развалину.
Целый месяц нашего путешествия был наполнен для меня этой фобией процесса мышления, фобия росла и росла, и я был уже на волоске от полного сумасшествия.
Мы отправились на прекрасную экскурсию вниз по извилистому Рейну, от городка где-то в Северной Пруссии до Кельна.
По обеим сторонам нашего речного кораблика с открытыми палубами проплывали лесистые холмы, на многих из которых стояли средневековые замки с башнями.
Я замечал все это, хотя буквально сходил с ума.
Главной туристской достопримечательностью Кельна был древний собор — самый красивый собор из всех виденных в моей жизни. Он, конечно, был готическим и очень изящным и лиричным для прусского собора.
Моя фобия процесса мышления достигла своего пика.
Мы вошли в собор, затопленный прекрасным цветным светом, льющимся через большие витражные окна.
Задыхаясь от ужаса, я преклонил колени для молитвы.
Я стоял на коленях и молился, когда вся группа уже ушла.
А потом случилось нечто таинственное.
Позвольте мне сказать, что я не предрасположен верить в чудеса или в приметы. Но то, что случилось, было чудом, причем религиозной природы, и уверяю вас, я не претендую на святость, рассказывая вам о нем. Мне показалось, что невесомая рука коснулась моей головы, и в то же мгновение фобия отлетела легко, как снежинка, хотя давила она на мою голову с огромной тяжестью чугунной плиты.
В семнадцать лет у меня не было сомнений, что моей головы коснулась и изгнала из нее фобию, чуть не доведшую меня до сумасшествия, рука Господа нашего Иисуса Христа.
Дедушка ужасно испугался, когда я исчез из поля его зрения и выяснилось, что никто из нашей группы достойных леди меня не видел. Он никогда не ругался, даже не повышал голоса, но когда я пришел, он сказал: «Боже, как мы были напуганы, Том, когда вернулись в автобус, а тебя нет. Одна леди сказала, что ты ушел из собора и мы найдем тебя в отеле».
Целую неделю после этого я чувствовал себя просто великолепно, и только тогда начал получать удовольствие от первого своего путешествия по Европе. Бесконечные хождения по картинным галереям мне все еще интересны только местами и краткими моментами, а в остальное время кажутся ужасно утомительными.
Фобия «процесса мышления» не повторялась примерно неделю, и физическая усталость начала проходить вместе с ней.
Последней заметной точкой нашего путешествия был Амстердам, или точнее, Олимпийские игры, проводившиеся в тот год в Амстердаме. Наша группа посетила какие-то конные состязания, и именно на них моя фобия вернулась ко мне — правда, ненадолго и уже ослабевшая.
Думая, что «чудо» в Кельнском соборе навсегда изгнало ее, я ужасно испугался, хотя она вернулась и в более слабой форме.
Той ночью я шел один по улицам Амстердама, и в этот раз произошло второе чудо, унесшее остатки моего ужаса. На этот раз чудо произошло в форме сочинения небольшого стихотворения. Это стихотворение, может быть, и не очень хорошее, за исключением двух последних строчек, но позвольте мне процитировать его, потому что оно легко всплывает у меня в памяти.
Мимо толпы чужих проходят,
Их шаги мои уши полнят,
Мои чувства — и мои страхи —
Монотонность их притупляет.
Я их вздохи слышу, смотрю я
В мириады их глаз безликих —
И внезапно огонь моей скорби,
Как зола на снегу, остывает.[8]
Этот небольшой стишок есть осознание того, что ты один среди многих других своего рода — очень важное, может быть, самое важное, по крайней мере с точки зрения равновесия разума — осознание того, что ты член многочисленного человечества с его многообразными нуждами, проблемами и чувствами, не какое-то уникальное создание, а один из множества себе подобных; подозреваю, что это самое важное осознание для всех нас именно теперь, при любых обстоятельствах, но особенно — сейчас. Момент осознания того, что мое существование и моя судьба могут раствориться так же легко, как зола, разбросанная в сильный снегопад, восстановило для меня, при совершенно других обстоятельствах, мое переживание в Кельнском соборе. И мне кажется, что оно было продолжением этого переживания, его развитием: сначала — касание мистической руки одинокой страдающей головы, затем — мягкий урок или демонстрация того, что голова, несмотря на достигший пика кризис, остается тем не менее одной головой — в толпе других.