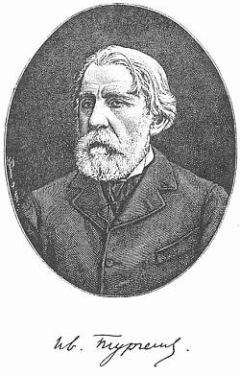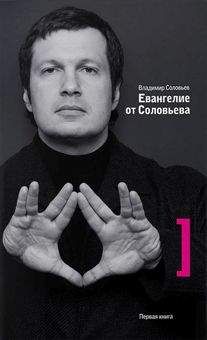О произведениях Тургенева до “Записок охотника” иначе и не говорили, как о чудовищностях западного развития, пересаженных на русскую почву без всякого признака таланта. Не так думал Белинский, открывший сразу в “Параше” признаки недюжинной авторской наблюдательности и способности выбирать оригинальную точку зрения на предметы. “Что мне за дело до всех анекдотов о нем, – говорил Белинский, – кто написал “Парашу”, тот сумеет поправить себя в чем будет нужно и когда будет нужно…”
Сам Тургенев между тем, выпустив в свет “Парашу”, уехал в Спасское и жил там, со страстью отдаваясь своему любимому занятию – охоте. Единственное, чего он ждал, была рецензия Белинского, которая, как он знал, должна была появиться в “Отечественных записках”. Пробовал он было читать свою вещь в Спасском матери, но Варвара Петровна только зевала, слушая стихи, и покачивала головой, удивляясь сыну, которому была охота сочинять канты. “Постичь не могу, – говаривала она, – какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? По-моему, писатель и писарь – одно и то же… И тот, и другой за деньги бумагу марают… Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомараньем… Да и кто же читает русские книги?” – “Но ведь ты же сама любила и уважала Жуковского”, – возражал Тургенев. “Ах, это совсем другое – Жуковский! Как его не уважать, – ты знаешь, как он близок ко двору”. В душе Варвара Петровна решила, что сын блажит, и мешать его блажи не хотела: сама пройдет… Да и почему не поблажить в 25 лет? Ведь блажь – тоже дворянское дело.
Но вот наступил май, и в новой книге “Отечественных записок” появилась нетерпеливо ожидавшаяся рецензия Белинского. Тургенев нервно, торопливо разрезал страницы, зная, что он принимает в эту минуту огненное крещение, и с замирающим от восторга сердцем прочел немногие посвященные ему строки. Вот что, между прочим, писал Белинский:
“Стиль в поэме обнаруживает необыкновенный поэтический талант; а верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которою скрывается столько чувства, – все это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его. Об оригинальности мы не говорим: она то же, что талант – по крайней мере, без нее нет таланта. Многие найдут в поэме следы подражания Пушкину и особенно Лермонтову: это не удивительно, ибо живая историческая последовательность литературных явлений всегда смешивается толпою с холодной и бездушной подражательностью. Но люди мыслящие понимают, что быть под неизбежным влиянием великих мастеров родной литературы, проявляя в своих произведениях упроченное ими литературе и обществу, и рабски подражать – совсем не одно и то же: первое есть доказательство таланта, жизненно развивающегося, второе – бесталантности”.
Далее Белинский, определяя сущность таланта Тургенева, заметил, что основой его является “глубокое чувство действительности”.
Легко понять, как такой отзыв должен был подействовать на молодого писателя. “Силы его удесятерились”. Он почувствовал, что “любит весь свет”, а больше всего на свете – Белинского. Он тут же дал себе клятву “сойтись с ним” и сделаться его “другом и учеником”.
Очень может быть, что в настоящее время отзыв Белинского о “Параше” покажется слишком восторженным. Если в юношеской поэме и были красивые места, прелестные описания природы, то были, разумеется, и существенные недостатки, например, ненужные и неудачные остроты, растянутость, бледность красок в драматических сценах, отсутствие страстности и художественной полноты. Тургенев, вообще говоря, развивался очень медленно. Только тридцати лет он стал настоящим писателем и впервые (“Хорь и Калиныч”) проявил свой огромный талант. Раньше он только пробовал: сочинял стихи и драмы и, гоняясь за эффектами, брал даже сюжеты из испанской жизни (“Неосторожность”), комично вплетая в них русские либеральные тенденции. “Параша” сыграла громадную роль в жизни самого Тургенева и ровно никакой в истории русской литературы. Забыть ее можно с таким же правом, с каким, например, “Ганса Кюхельганца” Гоголя. Белинский переоценил художественные достоинства поэмы, но он угадал талант, он угадал новое огромное дарование и приветствовал “Парашу” с таким же восторгом, как “Петербургские углы” Некрасова, “Бедных людей” Достоевского, “Обыкновенную историю” Гончарова. Мы же, имея перед собой “Отцов и детей”, смело можем не останавливаться на “Параше”.
По одному пункту, впрочем, можно сказать несколько слов. Я имею в виду и западническую тенденцию рассказа, и западнические взгляды автора. Что такое западничество? Теперь это не более, как один из моментов, пережитых “бедной русской мыслью”, одно из увлечений чисто теоретических, очень полезных в свое время, ненужных в наши дни. Говоря так, я не забываю, что западниками были Белинский, Грановский, Кавелин, но думаю, что западники вроде них были бы теперь излишним анахронизмом. Мы уже имеем больше права критически относиться к европейской жизни, чем они, и стоять на той точке зрения, к какой перешел в конце Герцен, с какой Добролюбов смотрел на Кавура. Это точка зрения экономического реализма прежде всего. Если мы как западники можем хотеть свободы личности, то мы знаем в то же время, что в Европе эта свобода далеко еще не осуществлена, в доказательство чего можно привести рабочий и женский вопросы. Но в 40-е годы, когда существовало крепостничество, когда генерал постороннего ведомства читал на улицах нотации каждому встречному и поперечному, когда надо было бороться с “ложновеличавым” или попросту “барабанным” направлением литературы, политики, самой жизни, когда идея русского патриотизма смущала лучшие умы (Аксакова, Киреевского, Хомякова), – быть западником значило быть передовым человеком. Жизненный смысл западничества – прежде всего в его противодействии славянофильству, в его критицизме. Недостаток славянофилов – прежде всего в их самодовольстве, в полнейшей невозможности осуществить их стремления. Славянофилы, требуя уничтожения крепостничества, были правы, велики, мудры. Те же славянофилы, уверяя, что формы западной культуры вредны для нас, что русский народ призван совершить нечто особенное и важное, а именно обновить человечество, грешили тем, что породили самохвальство и боязнь мысли.
Западники говорили: европейская культура выше нашей русской; все, что есть хорошего в нашей жизни, взято нами у Европы; мы должны твердо держаться пути, указанного нам Петром Великим. В этих словах заключалась не только верная (отчасти) мысль, но и программа деятельности. Подобной программы не было у славянофилов, страдавших, между прочим, склонностью к звучным фразам. Они не любили Петербурга и восторгались Москвой; они считали вредной реформу Петра и звали назад, к укладам русского народоправства (вече, Соборы и пр.), как будто можно было вернуться туда; они верили, что в области духа русские скажут последнее слово, и вместе с тем сами отличались туманностью и неопределенностью мысли; они по-детски дорожили формой в одежде, в языке, в религии; они думали, что надеть сарафан или красную кумачную рубаху – значило уже сделать что-то такое важное. Люди даровитые, честные, они, однако, не завещали нам ничего ценного, и причина этого заключалась в том, что славянофилы сами не знали хорошенько, чего они хотели. Припоминаю по этому поводу смешной анекдот. Однажды на балу К. Аксаков горячо убеждал какую-то даму бросить парижские моды и облечься в сарафан. К разговаривавшим подошел московский генерал-губернатор, при котором Аксаков продолжал – и еще с большим увлечением – развивать свои мысли. Один из гостей, проходя мимо Чаадаева, по обыкновению стоявшего в стороне и иронически улыбавшегося, спросил: “О чем это Аксаков говорит с генерал-губернатором?” – “Не знаю, право, – отвечал Чаадаев, – но кажется, Константин Сергеевич убеждает генерала снять мундир и надеть вместо него сарафан”. Si non e vero…[2]