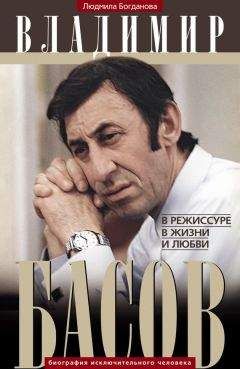— Ну какая разница, — говорю я. — Я платочек сверху повяжу, и не будет видно, есть у меня коса или нет.
Вдруг в гримерную входит ассистент режиссера Арто и говорит:
— Лучко — к Пырьеву… Пойдемте.
Меня привели к Пырьеву. Он посмотрел на меня и обратился к Арто:
— Надо орденочки ей какие‑то надеть. — И тут же мне: — А ну‑ка сними платок…
Я снимаю.
— Что это такое? Почему у тебя одна коса? Что за небрежность?
— Иван Александрович, — робко говорю я, — никто не виноват. Другой косы у гримеров не было. Ну какая разница… Я платок повязала…
— Нет — нет. Тебе надо две косы…
Арто получил нагоняй. Гримерша тоже.
— Из‑за тебя нам попало, — сказали они с обидой.
Но я‑то при чем…
Арто повел меня в фотоцех. Фотограф командует:
— Смотри вправо, голову влево, повернись сюда…
И вот я сижу в такой позе — с кривой шеей, с куда‑то заведенными глазами, а в это время открывается дверь и стремительно входит Пырьев.
— Ты чего так сидишь?
Схватил меня за голову, резко повернул. И фотографу:
— Ты вот так ее снимай. Мне просто надо снять. Просто… Понял?
Я думаю: Боже мой, действительно он такой, как о нем говорят. Если вдруг меня утвердят, то как я буду сниматься у него? Нет, я не смогу. Я крика и грубого отношения никогда не терпела.
Прошло какое‑то время, и я узнаю, что у меня будут кинопробы на роль молодой героини Даши Шелест.
Перед пробами Иван Александрович сказал мне:
— Я хочу, чтобы снимались ты и Владлен Давыдов. Он жениха твоего будет играть. Должна быть красивая идеальная пара. Я буду вас снимать, но вы будете пробоваться наравне со всеми.
Через несколько дней на студии я встретила Довженко.
— Девушка, — сказал он, — только что закончился художественный совет. Вас утвердили. Поздравляю и желаю успеха. Вы будете много и успешно сниматься в кино.
Сказать, что мне было очень приятно, значит, ничего не сказать. Я была счастлива.
Я никогда не забуду коридора студии «Мосфильм». Иду со съемки, и навстречу мне Александр Петрович Довженко. Выдающийся кинорежиссер. Очень красивый человек. Грива седых волос, зеленая шляпа, в руке палка. Он проходит мимо меня и вдруг поворачивается и говорит:
— Девушка, мне нужно ваше лицо.
Я растерялась. Только и смогла пролепетать:
— Пожалуйста.
— Я снимаю картину «Мичурин». Для вас у меня нет роли, но мы будем снимать сцену, очень важную, когда академик Пашкевич произносит речь перед студентами на встрече Нового года. И мне нужен только один ваш крупный план.
— Я сейчас разгримируюсь и приду, — ответила я.
Через некоторое время прихожу в павильон и чувствую: что‑то случилось. Довженко лежит на диване, пахнет какими- то лекарствами, над ним склонился студийный врач. Оказывается, у Довженко был сердечный приступ. Только что уехала «скорая помощь». Я подумала: съемки не будет. Повернулась, чтобы никого не беспокоить и тихо уйти. А он заметил меня и говорит:
— Девушка, подождите! Съемка будет. Обязательно будет. Подойдите ко мне.
Я подошла. Он усадил меня рядом и начал читать монолог:
— Последняя минута девятнадцатого века. Вижу миллионы человеческих глаз, устремленных в грядущее столетие, двадцатый век! Что принесет он науке? Человечеству?..
Он читал так темпераментно, так проникновенно, забыв о приступе, будто ничего не случилось. А я думаю: «Господи, ну зачем он тратит силы, ведь надо снять один крупный план. Только один».
Довженко подозвал художника по костюмам и гримера. Он отнесся к моему внешнему виду так, словно я играла главную роль.
Когда из гримерной я вошла в павильон, там было по- прежнему тихо. Люди переговаривались вполголоса. Александр Петрович долго выбирал место, где я должна стоять, советовался с оператором, какой нужно поставить свет. И опять начал читать новогоднюю речь. Это было похоже на колдовство.
Я почувствовала, что со мной что‑то начинает происходить, и казалось, что я все могу сделать — скажут: «Клара, лети!», и я — раз, и полечу.
Этот крупный план я запомнила на всю жизнь. Как будто я прошла школу великого Довженко… А ведь был снят всего один только кадр, правда, снимали его всю смену.
Вскоре началась работа у Пырьева в группе «Веселая ярмарка». Перед тем как отправиться в экспедицию, мы записывали песни на студии звукозаписи. К концу смены осталось только записать куплеты, которые должны петь Катя Савинова, Андрей Петров, Борис Андреев и я.
Но почему‑то Борис Андреев на запись не пришел. Ассистент режиссера испугалась, что ей попадет. Она не узнала заранее, будет ли Борис Андреев. Ассистент побежала по студии, стала искать, нет ли какого‑нибудь певца, чтобы пришел к нам.
В это время рядом писали оперу, там бас был. Она подошла к нему:
— Вы не можете прийти к нам и записать всего несколько фраз?
Он говорит:
— Конечно, пожалуйста. Но к кому это «к вам»?
— К Пырьеву…
— A — а, к Пырьеву… Я с удовольствием.
И пришел. Большой, солидный, спокойный человек. Ассистент побежала к Пырьеву:
— Иван Александрович, вы меня извините, Борис Андреев не явился, его нигде нет. Мы всюду звонили. Но мы привели оперного певца, и он может вместо Бориса Андреева спеть, у него бас.
Пырьев сверкнул глазами, но промолчал.
— Хорошо. Начнем. Значит, так, вот тут надо петь: «И чего- нибудь съедим…» Сможете?
Певец говорит:
— Конечно, смогу.
Заиграл оркестр, он послушал, про себя что‑то помычал и сказал:
— Я готов. Будем писать.
И мы поем:
Погодите, не спешите, мы боимся опоздать…
И оперный певец вступает:
И чего‑нибудь съеди — им — м…
— Так, — говорит Пырьев. — Все хорошо. Но вот этого «м — м» — не надо. Понимаешь?
Певец кивает. Он привык, что в опере надо выпевать каждое слово, делая его округлым. Буква «м» должна присутствовать.
Начали. Опять: «Погодите, не спешите…» Пишем до конца, и опять оперный певец: «И чего‑нибудь съедим — м–м…»
Пырьев, чувствую, теряет терпение.
— Слушай, я сказал, что «м — м» — не надо. Ну не надо «м — м».
Глаза у Пырьева злые. И когда певец в третий раз спел точно так же, Пырьев пошел на певца:
— Сколько раз я тебе должен повторять: «м — м» — не надо, не надо — о «м — м»…
Смотрю, певец попятился, отступил и вдруг повернулся и выбежал из павильона. Я думаю: Боже мой, как сниматься у такого режиссера… Это невозможно! Если он на меня закричит, я ничего не смогу сделать.
Но Пырьев был очень тонким, умным, талантливым режиссером, чувствующим и понимающим природу актера. На меня и на Катю Савинову он никогда не кричал. Даже если мы что- то делали не так, Иван Александрович только глазами поведет… Потом найдет какой‑нибудь другой объект, выкричится, а затем поворачивается к нам и спокойно говорит: