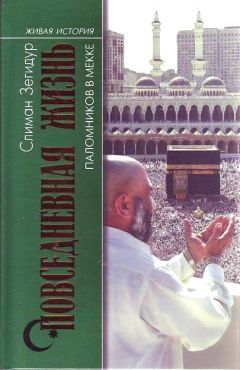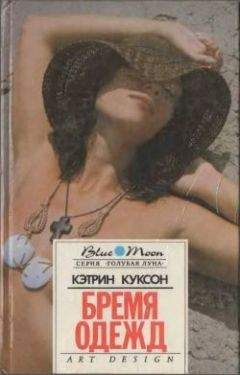Тюрьма для меня - жилье мое,
Каждый волос на теле - приставленный ко мне доносчик.
Из путников, странствующих по миру, ко мне
Не допускают даже и ветра.
Горе мне, если я хоть шаг ступлю на дорогу!
Увы мне, если я хоть раз вздохну от глубины сердца!
Злоречивый доносчик завяжет узелком этот вздох,
Запечатанным снесет его к его величеству шаху.
Хакани чувствует, что в этих условиях, особенно после поездки, ждать добра не приходится. Судьбы его предшественников весьма убедительно показывали, как ширваншахи отплачивают верным слугам за все их труды. Он мечтает об одном - скорее, скорее бежать из Ширвана, бежать куда-то, где можно будет открыто говорить о своих мучениях. Он обращается к солнцу:
Ты болеешь тоской по Хорасану[9],
Я связан этой страной тирании Ширваном,
Ты изгнано оттуда по навету,
Где твоя родина и место твоего рождения.
Я - в тоске от бедствий своей родной земли,
Сердце у меня в жару лихорадки, глаза покрыты влагой.
Мы - два, обладающих пламенным сердцем, пораженных горем.
Два желтолицых, терзаемых лихорадкой.
Поэт мечтает о тех местах, которые посетил во время путешествия:
Ранее, когда эмир века
Освободил меня от заточения в Ширване,
Пустился я в степь странствий
На полудохлой кляче стремления моего.
От погибельных берегов моря Ширвана
Искал я в Ираке цель души.
Приоткрывает он и причины своей тоски:
Бельмо на глазу у моей судьбы,
Изрыто оспой лицо моей воли.
Что такое это бельмо? Горе века.
Что такое эта оспа? Зло Ширвана.
Я - словно вол на тесной мельнице,
Вращающийся вокруг точки беды,
Израненный плетью времени.
На шее веревка, глаза завязаны.
Тот вол на мельнице, смотри, весь год
Все кружит и кружит. Ни радости, ни удовольствия!
Перед ним сочный корм и влажные ясли,
Да недостает у него голова до ясель.
От него до желанной пели не больно далек путь,
Только не достать ему рукой до цели.
Нам кажется, из этих слов можно заключить, что ширваншах Ахсатан I был жесток к своему придворному поэту. А в это время слава его пышных од уже успела разлететься по миру. Им начинали подражать и в Хорасане и в Средней Азии. Хакани, конечно, мог бы найти среди сельджукской знати или в Хорезме самый теплый и радушный прием.
Но освободиться от опеки ширваншаха было не так просто. Случилось то, чего Хакани ожидал. Шаху доложили, что поэт ропщет на свое положение. Этого было достаточно, и он попал в ту же тюрьму Шабаран, которая загубила Фелеки. Сколько времени он провел в тюрьме, неизвестно. В заключении он написал ряд «тюремных элегий», - пожалуй, наиболее интересных из всех его произведений. Среди них особенно любопытна одна, обращенная к византийскому императору Андронику Комнену, которого Хакани умоляет заступиться за него. Поэт, очевидно, исходил при этом из той мысли, что, будучи сыном христианки, он может рассчитывать на заступничество христианина. В касыде этой Хакани стремится показать, как хорошо он знаком с христианскими учениями. В ней он играет и терминами домусульманской религии Ирана - зороастризма. Касыда доказывает, что сущности зороастризма поэт не знал совершенно, но что в области христианских учений он обладал весьма обширными знаниями. Возможно, что эти знания он получил еще в детстве от матери, а может быть, тут играло роль и соседство христианской Грузии.
Помогла ли ему эта ода или другие неизвестные нам обстоятельства, но между 1171- 1179 годами он уже был свободен, ибо в этот промежуток совершил второй хаддж, из которого, несмотря на всю неприязнь к Ширвану, все же снова вернулся на родину.
Дальнейшая судьба его неизвестна. Мы видим его далее в Тавризе, откуда он тщетно старается вырваться в желанный Хорасан. К этому времени поэт потерял жену и обоих сыновей и остался совершенно одиноким. Он удалился от мира и в эти годы создал ряд дидактико-мистических од, полных презрения к жизни.
Дата смерти Хакани точно неизвестна, предположительно ее относят к 1199 году.
Диван Хакани состоит преимущественно из пышных од как на персидском, так и на арабском языках. Не подлежит никакому сомнению, что эти оды - кульминационный пункт развития придворной поэзии в Закавказье. Чтобы понять положение, в каком находился Хакани, надо вспомнить следующее.
Говорят, что один эмир просил у арабского поэта Саламы ибн-Джандаля (жившего еще до VII века), чтобы он прославил его подвиги. Поэт ответил: «Соверши - и спою». То есть: пока тебя восхвалять еще не за что. Во времена Хакани так ответить было уже невозможно. Кто бы ни был заказчик, нужно было найти возможность превознести до небес его, почти всегда воображаемые, заслуги. Касыды Хакани адресованы десяти различным правителям, тут и ширваншахи, и хорезмшахи, правители Табаристана, иракские сельджуки, правители Дербенда, Шемахи, Ильдигизиды и даже византийский кесарь.
Но характерно, что большая часть этих адресатов в истории почти никаких следов не оставила и, видимо, ничем особенно замечательна не была. При таких условиях неудивительно, что и сказать о них было нечего, и поэт волей-неволей все внимание должен был уделять форме. Та головоломная игра, которую мы уже видели у Фелеки, здесь доведена до такой изощренности, что читать Хакани может только очень искушенный читатель, способный разобраться во всем этом хитросплетении литературных и мифологических намеков и терминов, собранных из всех областей тогдашнего знания. Хакани не хочет повторять сравнения, уже употреблявшиеся поэтами хорасанской школы. Он ищет новизны и приходит к образам, поражающим неожиданностью. Вот как поэт описывает реку Тигр:
Ты видишь, как пена изо рта наворачивается из губы
[берега] Тигра,
Словно бы от жара вздохов его у него столько пузырей
вскочило на губах.
Условности придворной оды сковали поистине большой талант Xакани и привели к тому, что из всего его объемистого дивана лишь очень немногое продолжает сохранять ценность и доныне и может интересовать не только историка литературы. Нужно отметить, что наряду с касыдами Хакани оставил и довольно большое число лирических газелей. Значение их для истории литературы очень велико, но художественно они значительно уступают прославленной лирике Са'ди (Саади) и Хафиза.
Если бы Хакани смог освободиться от бремени придворной службы и подняться до иного понимания задач поэзии, он мог бы создать шедевры. Но это удалось сделать лишь Низами, и потому-то он и занял одно из почетнейших мест в мировой литературе.