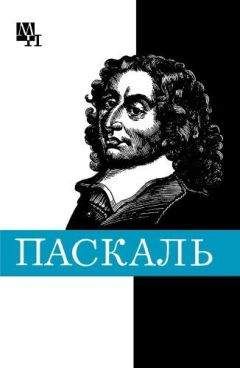По словам его сестры, Паскаль еще с ранней юности “отличался отвращением к тогдашнему модному вольнодумству”. Наука и религия составляли для Паскаля две совершенно различные области. Насколько он был пытлив в вопросах, касавшихся математики и физики, настолько же умел ограничивать свою любознательность в делах веры. Паскаль часто повторял, что таким разграничением вопросов знания и веры он обязан отцу, который с детства твердил ему, что все, что есть предмет веры, не может подлежать ведению разума, “Эти правила, – пишет сестра Паскаля, – часто повторяемые отцом, к которому брат мой питал огромное уважение и в котором видел соединение обширных научных познаний с проницательным и сильным умом, произвели на брата такое сильное впечатление, что, слыша речи вольнодумцев, он нимало не смущался ими. Когда брат был еще совсем молод, он смотрел на вольнодумцев как на людей, исходящих из того ложного принципа, что человеческий разум выше всего существующего, вследствие чего им и не понятна сущность веры… В делах религии брат был покорен, как ребенок… Он никогда не занимался тонкими богословскими вопросами, но употребил всю силу своего ума на то, чтобы познать и применить к делу христианскую нравственность”.
Таково суждение сестры Паскаля, кое в чем верное, но, конечно, не объясняющее того противоречия, которое составляет особенность большей части религиозных экстазов, подобных тому, какому подвергся Паскаль. Каким образом человек, проникнутый началами любви к ближнему, мог дойти до того, что выступил в роли, достойной инквизитора?
Это становится понятным, если вспомнить, что настоящие инквизиторы вроде Торквемады совмещали в себе суровые добродетели с самою зверскою жестокостью.
Хотя в конце своей жизни отец Паскаля отчасти подчинился влиянию сына, но по всему видно, что его воздействие на молодого Паскаля было умеряющим и отрезвляющим. Состояние здоровья сына нередко внушало отцу серьезные опасения, и с помощью друзей дома он не раз убеждал молодого Паскаля развлечься, отказаться от исключительно научных занятий и умерить дух излишней святости, “распространившийся, – по словам его сестры, – на весь дом”.
Наконец наступила временная реакция, и молодость взяла свое. До какого нервного расстройства доводили иногда Паскаля его благочестивые упражнения, видно из следующего рассказа его племянницы: “Мой дядя, – пишет она, – жил в великом благочестии, которое сообщил всему семейству. Однажды он впал в необыкновенное состояние, бывшее последствием чрезвычайных занятий науками. Мозг его был так утомлен, что с моим дядей приключился род паралича. Паралич этот распространился от пояса до самого низа, так что одно время дядя мог ходить не иначе, как на костылях. Его руки и ноги стали холодны, как мрамор, и каждый день приходилось надевать ему носки, смоченные водкой, чтобы сколько-нибудь согреть ноги”.
Врачи, видя его в таком состоянии, запретили ему всякого рода занятия; но этот живой и деятельный ум не мог оставаться праздным. Не будучи более занят ни науками, ни делами благочестия, Паскаль начал искать удовольствий и наконец стал вести светскую жизнь, играть и развлекаться. Первоначально все это было умеренно; но постепенно он вошел во вкус и стал жить, как все светские люди.
К величайшему сожалению, об этой интересной эпохе в жизни Паскаля сохранились самые скудные сведения. Его первые биографы – сестра и племянница – всячески старались набросить покров на события этого времени. Позднее враги Паскаля, очевидно, преувеличили дело, уверяя, например, что он превратился в страстного игрока и мота, а ездил не иначе, как в карете шестерней. Эта карета, по всей вероятности, принадлежала вовсе не Паскалю, а его новому другу, герцогу Роанезу, который повсюду возил с собою Паскаля.
Но непродолжительная реакция оказалась не совсем бесплодною: Паскаль успел окончить свои опыты по гидростатике, изобрел свой знаменитый “арифметический треугольник” и положил основание теории вероятности.
Весьма крупную утрату понес Паскаль со смертью своего отца, последовавшей в 1651 году. Сам Паскаль говорит, что. если бы эта смерть произошла шестью годами раньше, то есть во время его первого обращения, он был бы погибшим человеком.
По случаю смерти отца Паскаль написал старшей сестре и ее мужу письмо, за которое его часто упрекали в бессердечии. Упрек этот едва ли основателен. Лишь при поверхностном чтении письмо Паскаля может показаться резонерским и холодным; в действительности же оно есть род исповеди или покаяния.
Светские развлечения, которые позволял себе Паскаль, нередко казались ему преступными, и в тяжелые минуты, вроде тех, которые доставила ему смерть отца, он опять становился необычайно религиозным и упрекал себя за перемену образа жизни. Если письмо Паскаля смахивает на проповедь или на пастырское послание, то свои поучения он обращает не столько к сестре, сколько к самому себе. В письме чувствуется не только утешение сестре, но и крик измученной души. “Не будем скорбеть, – пишет Паскаль, – как язычники, у которых нет надежды. Мы не потеряли отца в момент его смерти; мы потеряли его с той минуты, когда он стал членом церкви: с той минуты он уже принадлежал не нам, а божеству. Не будем более смотреть на смерть как язычники, но как христиане, то есть с надеждою. Не будем смотреть на тело как на вместилище всего скверного, но как на нерушимый и вечный храм. Природа часто искушает нас, наша похоть часто жаждет удовлетворения, но грех еще не совершен, если разум отказывается грешить”.
При таком душевном настроении неудивительно, что Паскаль нередко думал и о своей собственной смерти. Частые болезни невольно наводили его на эту мысль. Еще до смерти отца Паскаль написал в духе первых христиан молитву “о хорошем употреблении болезней”. В этой молитве он говорит: “Хотя в своей прошлой жизни я не знаю великих преступлений, которых я не имел случая совершить, жизнь моя была позорна своей полнейшей праздностью и бесполезностью всех моих действий и мыслей. Вся эта жизнь была сплошной потерей времени”. В своем самобичевании Паскаль доходит до того, что считает для себя физические страдания совершенно заслуженными и смотрит на них как на спасительное наказание. “Сознаюсь, – говорит он, – что было время, когда я считал здоровье благом”. Теперь он молит божество лишь о том, чтобы мог страдать как христианин. “Я не молю об избавлении от страданий – это награда святых”, – с трогательною наивностью замечает Паскаль.
О том, насколько тверд был Паскаль в перенесении физических мук, сохранилось свидетельство его сестры:
“Между прочими его болезненными припадками был и тот, что он не мог проглотить никакой жидкости, пока она не была достаточно нагрета, и глотать он мог не иначе как по каплям, но так как при этом он страдал невыносимою головною болью, чрезмерным жаром во внутренностях и многими другими болезнями, то врачи приказали ему в течение трех месяцев принимать через день слабительное. Таким образом, ему приходилось принимать все эти микстуры, для чего надо было их нагревать и глотать капля за каплей. Это было сущее мученье, и всем его близким становилось тошно, но от него никто никогда не слышал ни малейшей жалобы”.