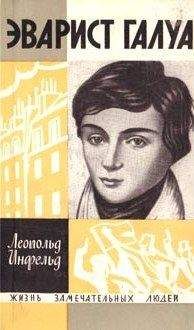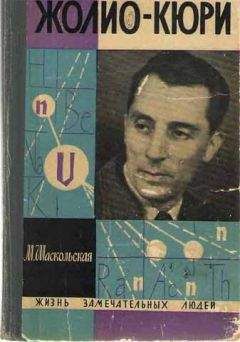Он помолчал. Когда он снова заговорил, голос его звучал еще спокойнее.
— Боюсь, что я защищаю безнадежное дело. Если так, это последний год моего пребывания в Луи-ле-Гран. Но мне хотелось бы обратиться к вам с предложением. У нас тут имена сорока зачинщиков. Почему бы не собрать их завтра утром, не выслушать, чего они хотят, и не попробовать урезонить их? Мы могли бы прийти к соглашению и таким образом спасти от позора и школу и самих себя. Я знаю, господа, что вы найдете мои слова странными. Но выиграть это сражение мы не можем. Нельзя побороть девятьсот учеников. Нам может показаться, что мы одержали победу. Но чем значительнее покажется нам эта победа, тем неизбежнее будет наше окончательное поражение.
Директор забарабанил пальцами по столу.
— Если я правильно понимаю вас, мсье де Герль, — злобно начал он, едва проктор успел опуститься на стул, — вы хотите, чтобы мы пошли на переговоры с бунтовщиками, обошлись с ними как с равными — с профессорами и наставниками. Если они объявят, что им не по душе мсье Берто, не по вкусу такой-то профессор, не по нраву надзиратель, вы им скажете: «Ладно, дети мои, будь по-вашему. Завтра сменим директора, сменим профессоров, сменим надзирателей, которые вам неугодны». Потребуют каждый день за обедом шампанского — хорошо, получайте шампанское. Следует знать: чем больше ученикам уступаешь, тем большего они требуют, тем безрассуднее становятся. Наше учебное заведение призвано внедрять повиновение и дисциплину. Если этого можно добиться только силой, значит добьемся силой.
Теперь он попытался перейти на деловой тон
— На заседании старших преподавателей мы разработали детальный план действий. Сейчас я разъясню вам наш план. Каждый из вас будет нести ответственность за его выполнение. Прискорбно, что мы не можем рассчитывать на мсье де Герля. Его взгляды, как вы только что слышали, весьма несходны с нашими.
Директор подошел к стене, на которой висел большой план Луи-ле-Гран, освещенный с обеих сторон свечами. Он чувствовал себя генералом, устроившим смотр своей армии профессоров и надзирателей. Он водил указкой по карте, показывая поле сражения. Здесь ему предстоит разбить армию неприятеля — бунтовщиков. И с божьей помощью, во имя короля он одержит победу!
Год 1824, вторник, 27 января
В половине шестого утра в Луи-ле-Гран настойчиво зазвонили колокола, разгоняя всякую надежду поспать еще немножко.
Когда Эварист Галуа проснулся, было еще темно. Он увидел знакомое лицо надзирателя, зажигавшего немногие свечи в подсвечниках, укрепленных на стенах. Потом услышал: «Подъем! Всем вставать!» Надзиратель срывал одеяла с тех, кто еще лежал в постели.
Эварист начал одеваться. Каждая мелочь в комнате, каждое лицо были ему знакомы. Тридцать шесть кроватей, одни из железа, другие из дерева. Стоят ровно на три фута друг от друга. Убери их, и ничего не останется, кроме холодного кафельного пола и шкафчиков, выстроившихся вдоль стен.
Он взглянул на окна. Ужасные окна. Они так высоки, что не дотянешься. Когда рассветет, он увидит кончик дымовой трубы на унылом фоне зимнего неба. И потом — эти узкие, частые квадратики железных решеток! Стоит подумать о Луи-ле-Гран, и перед закрытыми глазами сразу встают решетки. Лунными ночами их тени тянутся по полу через кровати, ложатся на лица соседей. Каждое утро, каждый вечер, глядя на эти стены, он думал о тюрьмах. Похожа ли эта спальня на тюрьму? Наверное, в тюрьме еще хуже.
В комнате было холодно. Студенты поспешно одевались, возбужденно переговаривались — о клопах, искусавших их ночью, о приготовленных или неприготовленных уроках; приглушенно, полуфразами напоминали друг другу о наступающих событиях.
Одевшись, Эварист спустился к уборным. Их вонь пронизывала все здание, усиливаясь по мере приближения, пока не становилось трудно дышать. В этом зловонии студенты дожидались свободного места, торопили друг друга. Сидящие внутри болтали с теми, кто стоял снаружи.
Вернувшись в спальню, Эварист взял маленькое полотенце и побежал с ним к фонтану в центре двора. Как и другие, он растер лицо сухим полотенцем, подставил руки под фонтан, быстро вытер их, бегом вернулся в спальню, повесил полотенце на крючок, схватил большой латино-французский словарь, «О дружбе» Цицерона, «Метаморфозы» Овидия, тетрадь и отправился в комнату для занятий четвертого класса. В шесть часов пришел надзиратель, и ученики взялись за уроки.
Для Эвариста это были хорошие минуты. Он открывал книгу Овидия и слегка шевелил над ней губами, чтобы убедить надзирателя, что заучивает наизусть. Сонным, скучающим взглядом надзиратель лениво выискивал жертву — ученика, которому вздумается заговорить с соседом. Эварист в точности знал, что произойдет за эти полтора часа подготовки к занятиям. Как и всегда, он будет мечтать. Он увидит картины, в тысячу раз более реальные для него, чем окружающий мир.
В эти минуты он никогда не бывал в Луи-ле-Гран. Он уходил всего за несколько миль от Парижа. Но Бур-ля-Рен был далек от Луи-ле-Гран, как будто это были два разных мира.
Эварист видел отца так близко и отчетливо, что казалось, сейчас дотронется до него. Он чувствовал, как мягко скользит по его волосам отцовская рука. Когда Эварист вспоминал отца, ему представлялся свет, солнце, излучающее тепло, от которого тает снег; или ясный день, когда в воздухе пахнет сеном и цветами.
Запахи! В них все. Бур-ля-Рен — это цветы и сено. Луи-ле-Гран — едкий запах мочи.
Отец умел громко смеяться. Правда, с недавних пор его смех часто и внезапно обрывался. Мать никогда не пыталась продлить веселье отца. Думая о матери, Эварист представлял себе греческую богиню, черноволосую, с блестящими черными глазами. Он улыбнулся.
— Галуа! Вы, кажется, неплохо проводите время.
Он услышал голос надзирателя, но слова его пропустил мимо ушей и, уставившись в книгу Овидия, забубнил:
Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,
Sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat.[5]
Как хорошо знал он эти стихи! Ему все еще слышался ровный, терпеливый голос матери, толкующей ему их значение. Он мог всласть мечтать о Бур-ля-Рен. Мать научила его всему, что они сейчас проходят по латыни и греческому. Зачем его послали в Луи-ле-Гран? Почему не оставили учиться дома? Отец и мать гораздо больше знают, чем все его профессора и надзиратели, вместе взятые. Да вот — эти стихи. Он вспомнил, как горда была мать, когда он без ошибок, без запинки продекламировал их у деда, мсье Деманта. Он знал, что мать гордится им, хотя выражение ее лица не изменилось. Но отец подошел, прижал его к себе, поцеловал. Мать что-то шепнула ему, и лицо отца помрачнело.