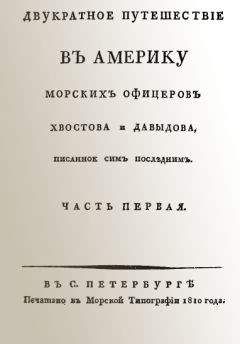Деятельность «Новой газеты» была направлена в две противоположные стороны: на подавление старых понятий, уничтожение господства «бесталанных, дюжинных талантов и талантливых многострочителей, трех архиврагов искусства; затем на поощрение всего молодого, самобытного и гениального».
«Время обоюдных любезностей пришло к концу, – говорил музыкальный новатор, – мы сознаемся, что ничего не сделаем для его возрождения. Кто боится нападать на дурное, защищает хорошее лишь наполовину». Общий тон «Новой газеты» носил характер необыкновенного доброжелательства. «Если бы вы знали, артисты, а главное – вы, композиторы, как мы счастливы, когда можем вас безгранично хвалить. Мы знаем язык, на котором следует говорить об искусстве – это язык доброжелательства». Исходя из того убеждения, что «без поощрения нет искусства», Шуман взял под свое покровительство молодых композиторов, которым грозила опасность погибнуть от гонения старой критики и равнодушия публики. Всякая самобытность и дарование, даже если они не подчинялись условным правилам сочинения, встречались новой критикой радостно, и Шуман главным образом отстаивал свободу их проявления. «Гений может творить свободно», – пишет он. «К чему облекать пылкого юношу в халат старика и давать ему длинную трубку для того, чтобы он сделался положительнее и порядочнее. Оставьте ему развевающийся локон и веселый наряд!» Примером доброжелательной критики может послужить отрывок из отчета о сонате Дельфины Гилль Гандлей. «Подойди ближе, нежная артистка, и не бойся грозного слова о себе. Небо знает, что я ни в каком случае не Менцель, а скорее Александр, который сказал Квинту Курцию: „С женщинами я не воюю; я нападаю лишь на тех, кто с оружием“. Я осеню твою голову жезлом критики, как стеблем лилии. Или ты думаешь, что мне незнакомо то время, когда хочешь говорить и не можешь от избытка блаженства, когда все готов прижать к своей груди, но не находишь ничего, и когда музыка нам указывает то, что мы еще раз утратим?» – и так далее. Как беспощадно громил Шуман представителей бездушной виртуозности, можно судить по его отзыву о фантазии Черни «Четыре времени года». «Большего банкротства фантазии, чем проявил Черни в своем новом произведении, трудно себе представить. Поместите почтенного композитора в богадельню и дайте ему пенсию; право, он ее заслужил и не будет больше писать». С особенным ожесточением Шуман нападал на произведения своего великого современника Мейербера, музыка которого была противна самой природе Шумана. Заботы и хлопоты по изданию газеты почти всецело лежали на Шумане, и одним из наиболее деятельных его помощников был Людвиг Шунке, с которым он познакомился незадолго до основания редакции.
«Прошлую зиму к нам вошел молодой человек. Все глаза устремились на него. Одни находили в нем сходство с апостолом Иоанном; другие полагали, что если бы откопали в Помпее подобную мраморную голову, ее бы объявили принадлежащей римскому императору. Флорестан шепнул мне на ухо: „Ведь это воплощенный Шиллер Торвальдсена, но только что в живом еще более шиллеровского“. Однако все согласились, что он должен быть художником, так ясно его положение было обозначено самой природой в его внешнем образе; да, ведь вы все знали, мечтательные глаза, слегка иронический рот, густые, длинные и вьющиеся волосы и под ними хрупкое тщедушное тело. Прежде чем он в этот день первой встречи нам тихо назвал свое имя – Людвиг Шунке из Штутгардта, – я услышал внутренний голос: „Это тот, которого мы ищем“, – и в его глазах светилось нечто подобное».
Шуман не ошибся: он вскоре сблизился с Людвигом Шунке и горячо к нему привязался. Шунке происходил из музыкальной семьи и сам превосходно играл на фортепиано; Шуман с наслаждением слушал не только его игру, но даже упражнения: «Как орел, носился он, метал молнии, как Юпитер с сверкающим, но спокойным взглядом, с каждым нервом, исполненным музыки! Уверенность и смелость его игры, особенно в последние месяцы перед смертью, дошли до невероятного и носили оттенок болезненности». Его творчество, не успевшее вполне развиться, подавало большие надежды, но насколько он свободно излагал музыкальные мысли, настолько же не владел даром писателя, – статьи его в газете приходилось исправлять Шуману, который так любил своего друга, что после смерти его, глубоко поразившей знаменитого композитора, продолжал писать статьи в его духе и от его имени. Шунке умер от чахотки на 24-м году своей жизни.
Шуман начал свою деятельность как критик за несколько лет до издания газеты.
Поводом к этому послужили вариации на тему «Дон Жуана» Шопена, тогда еще неизвестного, начинающего музыканта. Шуман своим тонким художественным чутьем угадал в нем гения, написал о нем статью, напечатанную во «Всеобщей музыкальной газете» и затем вошедшую в сборник его сочинений. В этой статье, носящей отпечаток влияния Жан Поля, Шуман сразу отводит Шопену то место, которое он заслужил. «Шляпы долой, господа, – пишет он, – перед вами – гений!» Благодаря его восторженным отзывам, упрочились имена Мендельсона, Шуберта, Шопена, Берлиоза и многих других, на которых публика и критика тогда еще не обращали внимания.
Критическая деятельность Шумана замечательна не только по верности своих отчетов, беспристрастности суждений и глубине мысли, но и потому, что она дала ему возможность проявить свой литературный и поэтический талант; некоторые из его статей можно назвать прямо стихотворениями в прозе по образности выражения и богатству фантазии.
Молодым издателям часто ставилось в упрек, что они выдвигают поэтическую сторону музыки в ущерб ее теоретическим достоинствам; «но, – отвечает Шуман, – в этом упреке заключается именно то, чем мы хотим отличаться от остальных газет».
Свежий, бодрый дух издания, честность взглядов, доброжелательное, лишенное всякой зависти отношение к товарищам по искусству приобрели газете вскоре симпатии публики, которая с интересом следила за борьбой обеих партий. Сотрудники печатали свои статьи под псевдонимами, более или менее известными публике, но она встречала иногда имена, которые поражали ее своей таинственностью: Флорестан, Эвсебий, Раро и целое общество – Давидсбюндлеры долго оставались для всех загадкой. Но наконец ларчик открылся, и довольно просто: оказалось, что все эти лица и само общество были не кто иной, как сам Шуман. При своей любви ко всему загадочному и сверхъестественному, при убеждении, что таинственность обаятельно действует на массу, Шуман создал целый фантастический мир музыкантов, от лица которых и писал свои статьи. Воплотив в Эвсебии и Флорестане разнородные элементы своей натуры, великий композитор прибегал к их посредству, чтобы придать разнообразный колорит своим статьям.