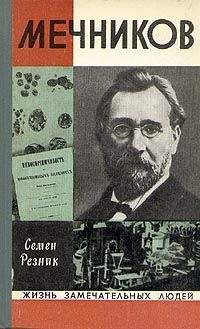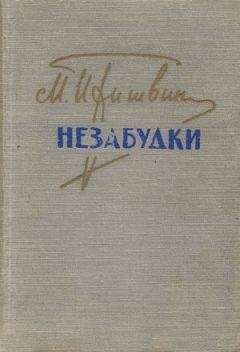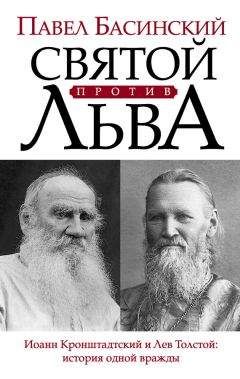Правда, по данным одного харьковского педагога, из класса в класс успешно переходило около семидесяти процентов учеников; в среднем каждый гимназист раз в три года оставался на второй год, причем причину этого педагог видел не в малом радении учащихся, а в «многосложности гимназического курса, от которой проистекает поверхностность учения и которая развивает умственную апатию и отвращение к науке».
Но у Ильи апатия не развилась. В первый год он прилежно преодолел «многосложный» курс и даже попал на золотую доску. Доказав себе и другим, что может быть первым по всем предметам, он в следующий год добрую половину их забросил, чтобы с тем большим рвением отдаться любимым.
Любимыми были естественные науки.
Лекций товарищам он теперь не читал: карманные деньги тратил на книги. Понимал в них немного, «но и это непонятное, — пишет Ольга Николаевна, — возбуждало его любознательность».
Все более грозные ветры общественных настроений одних горячили, у других вызывали озноб. Больше всех горячились студенты. Они отпускали лохматые бороды, до хрипоты спорили в прогорклых от табачного дыма университетских уборных (специальных курилок, согласно уставу, не полагалось), совали друг другу запрещенные книжки.
Гимназисты по причине нежного возраста бород отпускать не могли, но в остальном от студентов старались не отставать.
В Харьковском университете учились два брата Богомоловы — Михаил и Иван, сыновья фабриканта красок. Отец, дабы иметь знающих помощников, определил их учиться химии.
Под руководством молодого профессора Николая Николаевича Бекетова они овладевали премудростями химического эксперимента, и один из них, Михаил, выполнил даже интересное научное исследование.
Второй Богомолов, Иван, увлекался не столько химией, сколько совсем другими вещами. Посланный отцом за границу для «усовершенствования в науках», он встретился с А. И. Герценом и привез «бездну запрещенной литературы» (что было потом выяснено на следствии по делу о тайном обществе в Харькове).
Все это не имело бы к нашему повествованию никакого касательства, если бы у фабриканта красок не было еще третьего сына, ученика второй харьковской гимназия, и если бы от бородатых Богомоловых запрещенные и незапрещенные книжки не переходили к безбородому, а в гимназии их не прочитывал Илья Мечников.
Правда, герценовский «Колокол» в душе его отзвука не нашел. Освободить крестьян? Да, конечно, но надо ли звонить так громко? Он не помнит, чтобы в Панасовке мужики сильно тяготились крепостной зависимостью…
Иное дело — Фогт, Молешот, Бюхнер. Чтобы читать их, Илья даже взялся основательно штудировать немецкий язык; впрочем, скоро по рукам пошли размноженные на гектографе русские переводы…
Мальчики к тому времени отмаялись два года в пансионе непереносимого Карла Ивановича и уговорили Эмилию Львовну поселить их на частной квартире. Свободного времени стало больше. Использовали они его, правда, по-разному. Коля играл с приятелями в карты, пристрастился к бильярду, а в старших классах не прочь был кутнуть в веселой компании. Илья пытался вразумить брата, но «спокойный папаша» рассудительно возражал, что каждый делает то, что ему хочется. Ты, мол, ученые книжки читаешь, валяй на здоровье, а я удовольствие нахожу в другом.
Коля уходил, а Илья погружался в чтение…
2
Через много лет в своих воспоминаниях об Александре Онуфриевиче Ковалевском Мечников особо остановится на настроениях молодежи конца 50-х — начала 60-х годов и в связи с этим процитирует разговор Базарова с Аркадием. Базаров советует другу предложить отцу почитать «что-нибудь дельное» и на вопрос, «что бы ему дать», отвечает: «Да я думаю, Бюхнерово „Stott und Kraft“ на первый случай».
«Stott und Kraft» (правильно «Kraft und Stott» — «Сила и материя») и было наиболее известным произведением Бюхнера.
«„Наука и опыт“ — вот лозунг времени», — читал Илья.
«Мир есть не осуществление единичной мысли творца, а комплекс вещей и фактов, который мы должны признать таким, каков он на самом деле, а не таким, каким угодно представлять его нашей фантазии».
«Как не может быть мышления без мозга или без телесного аналога его, точно так же нормально развитой и нормально питаемый мозг не может существовать, не мысля; и если бы мы захотели представить себе мыслящий мировой дух, то это было бы невозможно без мирового мозга, питаемого кровью, изобилующей кислородом».
«Душа без тела, дух без организма, мышление без субстанции — такая же немыслимая и несуществующая вещь, как электричество, магнетизм, теплота, сила тяжести и т. д. без тел или веществ, в деятельности которых они могут проявляться».
От этих строк веет грубым вульгарным материализмом. Но сколько убежденности в тех же строках и как подкупающе ясна вырисовывающаяся из них картина! Закон сохранения материи и закон сохранения энергии — вот незыблемый фундамент, на котором стоит мир. В природе нет ничего, кроме вечно движущейся и видоизменяющейся материи; все комбинации ее временны и непрочны. То, что вчера было соловьем, производящим чарующие звуки, завтра обратится в прах… Рассуждения о душе, способной существовать отдельно от тела, о мировом духе — не больше чем пустые, ни на чем не основанные фантазии…
Вот что открыл для себя Илья, и открытие это было громом среди ясного неба, землетрясением, всемирным потопом… Ведь что означало оно для юного поклонника естественных наук? Что бога нет! Нет высшего судии, всевидящего и всепроникающего, у которого с младенческих лет привык ежедневно вымаливать прощение за невесть какие провинности.
А из этого следовало, что можно разогнуть плечи, широко открыть глаза и по-новому посмотреть на окружающий мир — взглядом не приниженного раба, а властного хозяина. Ибо сколько ни твердили ему, что бог милостив и справедлив, однако ведь воспитывали в страхе божием. И вот оказалось, что это бредни, бабушкины сказки…
Как было не воспрянуть? Как было не возликовать душе его, которая, как выяснилось, вовсе не существует без тела?
Правда, вместе с верой в бога приходилось распрощаться и с верой в личное бессмертие…
Приходилось мириться с мыслью, что там, в конце этой жизни, ждет тебя вовсе не переход в иной — и лучший — мир, а полное уничтожение… Приходилось мириться с тем, что твои мысли и чувства, страдания и надежды, мечты и стремления — это всего лишь капризное сочетание первоэлементов материи, столь же зыбкое и непрочное, как и всякое другое их сочетание, и оно непременно рассыплется в прах, исчезнет без следа…
Совсем недавно, каких-то полтора десятка лет назад, тебя еще не было; пройдет пусть пять, пусть шесть десятилетий, и тебя опять не будет. Так что же тогда твое единственное и неповторимое «я», как не едва различимая кочка на унылой, уходящей в бесконечность равнине несуществования?..