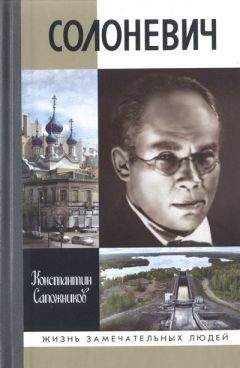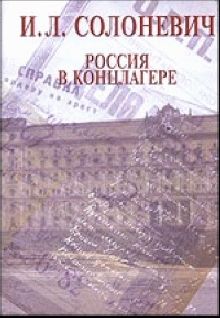Патруль уходит, а мы торжественно вытаскиваем из тайника бочонок с брогой. Там и мука, и сахар, и изюм, и хмель, и всякие другие специи. Все это с громадными трудностями собиралось и копилось специально для сочельника и варилось Хаимом с видом средневекового алхимика. Теперь настал торжественный момент откупоривание заповедного бочонка…
Круглое лицо Хаима, нашего виночерпия, сосредоточено. Всеобщее молчание придает особую значительность этому моменту.
Пробка скрипит, свист газа проносится по комнате, вслед за этим происходит маленький взрыв, и пенистая брага, при общих ликующих возгласах, шипящим потоком льется в подставляемые кружки…
Как мало, собственно, нужно, чтобы доставить радость усталым, забывшим об уюте и беззаботной улыбке, сердцам! Одно дело — заставить себя улыбнуться, другое дело — улыбнуться от всего сердца…
Саныч вытаскивает «одолженную» у жены какого-то чекиста гитару, и под вой вьюги в трубе и треск пылающих поленьев тихо льются мягкие аккорды струн и слова чудесной песни:
«Замело тебя снегом, Россия…
Запуржило седою пургой…
И печальные ветры степные
Панихиды поют над тобой…»
А непокорная фантазия опять несется к иному миру, где нет гнетущих картин голода и террора…
Вот сейчас во всем мире празднуют Рождение Христа. Везде сияют радостные лица, звучат сердечные тосты, мягко светят камины, горят традиционные рождественские свечи…
Я выхожу из сарая. Буря уже прекратилась, и в небе плавно колыхаются чудесные снопы и полосы северного сияния. Розовые, красные, фиолетовые, голубые… Они беззвучно скользят и сияют в неизмеримой вышине, мягко освещая снежные поля… Сбоку неясно вырисовывается темный и величественный силуэт башен, соборов и стен кремля…
Все тихо. Сегодня ночь Рождества Христова…
«На земле мир и в человецех благоволение»…
Внезапно недалеко за кладбищем раздаются выстрелы… Волна холодной дрожи проходит по моему телу…
Так вот что обозначало приказание военного патруля «не выходить!»
Сегодня — ночь расстрелов…
Как-то, выходя из кремля, я столкнулся с низеньким человечком.
— Ба, товарищ Гай! Как живете?
Лицо Гая расплывается в улыбку. Еще бы! Наше знакомство началось с одиночной камеры на Лубянке… Это его довели до полусумасшествие и заставили подписать приготовленные следователями показания. Некоторые его приятели были расстреляны, часть ушла по тюрьмам и ссылкам, а его, уже ненужного свидетеля, послали в Соловки с приговором в 10 лет.
И здесь Гай своими глазами наблюдал оборотную сторону советской действительности.
— Ну, как дела, товарищ Гай? Да здравствует генеральная линия великой партии и социалистическое перевоспитание народа путем концлагерей?
— Да бросьте, т. Солоневич, — мягким тоном просит Гай. — Довольно насмехаться. Вижу я этот социализм.
— Ладно, ладно, раскаявшийся грешник, — шутливо говорю я, беря его под руку. — Чтобы окончательно избавить вас от иллюзий, давайте пойдемте со мной сюда, на кладбище. Я вам там кое-что покажу, что закрепит ваше раскаяние.
За кладбищем, у леса мы подходим к большой прямоугольной яме, вырытой еще осенью. Яма до половины чем-то наполнена, и это «что-то» полузанесено снегом…. Из под белого савана, наброшенного милосердным небом на этот страшный прямоугольник, синеватыми пятнами торчат скрюченные руки и ноги мертвецов…
Сколько их здесь, этих жертв бесчеловечного лагерного режима, безвременно погибших на этом забытом Богом островке?
В середине ямы, где порыв ветра сорвал снег, обнажен почти целый труп — изможденный, страшный, костлявый. А у самых наших ног из под снега высовывается голова с синими губами, искривившимися в страшной гримасе, и холодным блеском остановившихся зрачков.
— Вот цена «достижений революции»! — с горечью говорю я.
— Ax, оставьте, Солоневич, оставьте, — истерически вскрикивает Гай и лихорадочно тащит меня назад. — Зачем вы меня мучите всем этим?.. Боже мой! Не напоминайте мне никогда, что я был с ними… Я уже довольно заплатил за свою ошибку…
— Да, но за вашу ошибку, другие, там в ямe, заплатили еще больше!..
23 апреля 1928 года
Парад в розницу
Полярный апрель… Наступили чудесные белые ночи. Еще холодные лучи солнца сияют до позднего вечера, и снег слепит глаза своей нестерпимой белизной.
Сегодня 23 апреля — день св. Георгия Победоносца. В прошлом году мы собрались вместе, но в этом году этот сбор особенно опасен… По лагерю прошла волна «зажима» и преследований контрреволюционеров.
Несколько недель тому назад группа священников, собравшаяся помолиться вместе, была арестована и посажена в изолятор по обвинению в контрреволюционном заговоре…
И на предварительном совещании мы, по меткому выражению Димы, решили отпраздновать наш день «не оптом, а в розницу» — ограничиться только посещениями друг друга…
На дворе — мороз и ветер. Северный полярный круг не шутит и не сдается весне. Я нахлобучиваю свою волчью шапку и отправляюсь в поход.
В нашем сарае Дима отплясывает какой-то замысловатый индийский танец, стараясь согреть застывшие ноги. Он только что принес из починочной мастерской несколько пар красноармейских лыж и продрог до костей.
— Ты это куда, дядя Боб? Ей Богу, в сосульку превратился!
— Надо, братишечка, ребят-то наших повидать…
— Ах, парадный обход! Постой, пойдем вместе. Вот только отогреюсь немного.
— Никак нельзя, Димочка. Пропуска для хождение по острову у тебя ведь нет. А теперь такие строгости — как раз в карцер угодишь. Да и тут кому-то нужно остаться…
— Ладно, ладно, катись, Баден-Пауль Соловецкий… Что-ж делать? Только ты там и за меня хорошенько потряси лапы ребятам…
Человек долга
Недалеко от нас к стене Кремля прислонилось маленькое здание — это наше пожарное депо. Ленинградский скаут Володя поступил в депо простым пожарным, но скоро зарекомендовал себя таким специалистом, что он теперь уже начальник пожарной охраны.
В дежурке — темно. Володя крутит ручку старого телефона и с трудом узнает меня. Лицо его помято, и на щеке полоса сажи.
Я молча протягиваю ему левую руку. Несколько недоумевая, он дружески пожимает ее, а потом, переводя глаза на зеленую веточку в петлице моей тужурки (по традиции русских скаутов 23 апреля каждый скаут должен в петлице иметь цветок или простую зеленую веточку) и радостно вскрикивает: