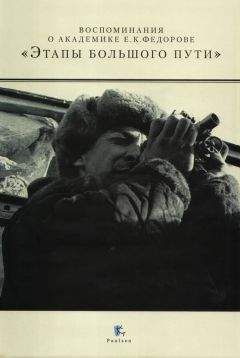— Я крутила эту верёвку с какой-то ужасной «преступленницей» — с ужасом и слезами рассказывала пани Гелена — она меня ругала всё время, и хотела бить!..
Самое же худшее было то, что к концу рабочего дня на ладонях и нежных пальцах пани Гелены появились волдыри.
К счастью, тётю Олю, у которой резко упало зрение, как раз в это время перевели в инвалидный цех. Там тётя Оля была «своя», простая баба, и умела управляться с уркачками. При ней они не смели обижать пани Гелену. Тётя Оля успевала сделать свою «норму» — всё-таки, какая-то норма, видимо, была — и накрутить ещё хоть сколько-нибудь для пани Гелены.
…Пани Гелена стала понемногу приходить в себя. Когда мы первый раз привели её в клуб, и она увидала наш клубный рояль, она пришла в ужас — до того показался он ей расстроенным и негодным. Играть невозможно!..
И всё же она начала играть. Рояль кое-как подстроили, и теперь, правдами-неправдами освобождённая от фабрики, пани Гелена целые дни проводила в клубе за роялем, штудируя весь свой концертный репертуар… Нот, конечно, не было, но она знала весь его наизусть.
Помню её первый концерт. Как она волновалась — ничуть не меньше, чем перед концертом в консерватории, или в концертном зале — в Милане, Париже или Лондоне… Как долго она всматривалась в зеркало и взволнованно спрашивала:
…Как я «выглядываю»?.. Идет ли «ко мне» это платье?..
Для концерта ей сшили чёрное — сатиновое, вероятно — платье, с длинным шлейфом, а у кого-то нашлась белая бархатная хризантема, которую прикололи ей на грудь. Это было единственное украшение, и хотя пани Гелена горько вздыхала об отсутствующих «бижутери» — но была она очень хороша и изящна в строгом чёрном платье с белым цветком на груди.
— Нет, Женичка, правда, как я «выглядываю»? — не переставала допытываться она у меня.
Нас больше волновало другое: как примет наша неискушённая публика концерт Сен-Санса, который она выбрала для первого выступления?.. Так много музыки, такой незнакомой, непривычной… Вдруг не станут слушать?.. Своими страхами с пани Геленой мы не делились.
Но они оказались напрасными. Чужую, французскую музыку (как объяснил Фёдор Васильевич), слушали очень внимательно. И когда кто-то в зале громко заговорил — на него зашикали со всех сторон.
Конечно, зал не бесновался и не орал, как после «куплетов» Ф. В., но аплодировали добросовестно и долго. Никакой «критики», которой мы побаивались — не последовало. А по другую сторону занавеса, пани Гелена, счастливая, сияющая, раскрасневшаяся, принимала наши поцелуи и поздравления.
Она была счастлива, хотя это был не Париж, и не Нью-Йорк, а всего-навсего маленький лагерный клуб на окраине Советского государства. А все «бижутери» заменял один-единственный цветок из лоскутков белого бархата.
Не знаю, дожила ли Гелена Квятковская до возвращения на родину. В 44-ом году «старых западников» (посаженных до войны) стали освобождать и отправлять из лагерей (куда?), заполняя их «новыми» — «освобождёнными». Но к тому времени меня уже давно не было на Швейпроме.
…Я так много пишу о людях, которые скрашивали дни нашей лагерной жизни, и со многими из которых мне было суждено по-настоящему подружиться, потому что без них жизнь в лагерях была бы невыносима. Некоторые из них остались в моей памяти, как драгоценные «самородки» среди ординарной, незапоминающейся «массы» заключённых.
«…О самородки незабытых дней…» — писал переживший Колыму поэт Анатолий Жигулин. И он хорошо понимал, что это такое… Кругом беспросветно, безнадёжно… Одуряющее однообразие… Усталость, недосыпание, недоедание… Тоска по дому… По детям…
А если бы их не было — этих «самородков»? Не было бы тех, пусть не дней, но хотя бы часов, даже минут, проведенных с ними вместе?.. Не было бы их бескорыстной помощи и поддержки?..
Что было бы с пани Геленой?.. С Лаймдотой Яновной?.. С тётей Олей?.. Со мной?.. Да и со всеми нами?..
Нет, не надо стесняться скупой радости когда-то пережитых мгновений, помогших пережить безнадёжность.
Нельзя жить одними проклятиями и стенаниями — ни в жизни, ни в литературе… Тогда лучше уж идти сражаться на баррикады, и… не пытаться быть писателем.
…Раннее утро. Открываю глаза, и вижу на чисто выбеленной стене нежные золотые полосочки, дрожащие и змейками убегающие куда-то в угол. Беспрерывно, без конца — бегут, дрожат… Всё шире золотая дорожка на стене. Не сразу и сообразишь — что это?.. Откуда?
А это — от реки, которая совсем недалеко, внизу за окном. Дрожит и искрится рябь на воде, позолоченной ранним солнцем, а от неё — эти золотые дорожки на нашей барачной стене… И так красиво, что сердце замирает…
Помню какой-то праздник, Октябрьской революции, должно быть, так как на дворе холодно, и все сидят в бараках.
Фабрика остановлена. Наша зона заперта, и пока ещё даже нас, актёров, не выпускают в лагерь. Скучно и душно, а форточку открыть нельзя — холодно тем, кто лежит у окна. Почти все валяются на нарах. Кто читает, кто лениво болтает с соседкой.
И вдруг в барак к нам входит Фёдор Васильевич, а с ним парнишка-гармонист, тоже из нашей «труппы». И вмиг всё преображается. Барак наполняется музыкой, весёлыми голосами, топотом, хлопаньем. Отодвинут в угол большой стол, скамейки…
Никогда не увлекалась я танцами, и особенно русскими. Правда, в детстве мечтала стать балериной, и танцевала под музыку брата какие-то свои собственные фантазии. Я не подозревала даже, что умею танцевать «русскую» или «казачка».
И вдруг — как-то ноги сами пошли в пляс, да так ладно, да так легко, и всё быстрей, да быстрей! И платочек в руке помахивает задорно и весело!
И все постепенно остановились и стали смотреть, и только в такт хлопать в ладоши. А я расходилась всё больше и больше, выдумывала какие-то коленца, летала по кругу словно на крыльях, ног под собой не чуя, только чувствуя, что мной любуются, и что Фёдор Васильевич тоже любуется и гордится мною… Только когда уж совсем задохнулась, упала на скамейку, а вокруг все захлопали!
Не помню, чтобы когда-нибудь в жизни я так танцевала ещё раз. Разве что на сцене, да и то совсем не так. А тут, вдруг, что-то «нашло»… Даже наш пёсик Мишка вылез из-под нар и радостно затявкал, смотря на наше веселье.
Ах, милый наш Мишка!.. Вот, только что такая весёлая минутка припомнилась, и сразу — грустное. Очень грустное…
Не помню, откуда он у нас появился, но как-то появился.
Белый, лохматый, глаза — две пуговки, за чёлочкой и не видать. Без хвоста. Потому и назвали Мишкой. Очень мы его полюбили. Бил он веселый, ласковый со всеми. В еде не привередлив, и за кусочек хлебца «спасибо» говорил! Подкармливали его понемножку, чем могли.