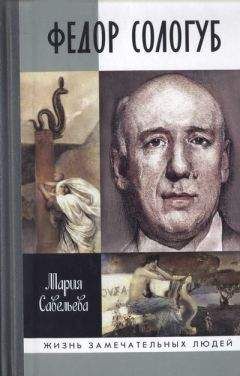При создании образа Шарика Сологуб опирался на самое тривиальное представление о Горьком, сложившееся в критике; однако, чтобы выдержать общий сатирический тон повествования, он целенаправленно прибегал к профанации горьковских идей и художественных образов.
Писатели Скворцов и Степанов знакомятся с Передоновым, в котором готовы видеть «нового человека» («могуче-злое зачуяли они в нем»), Скворцов-Шарик «наметил его себе в герои следующего гениального романа». Во время знакомства между ними происходит разговор «о лежачих». «Да, вот говорят, — лежачего не бить! Что за ерунда! Кого же лупить, как не лежачего! Стоячий-то еще и не дастся, а лежачему то ли дело! В зубы ему, в рыло ему, прохвосту! <…> Падающего надо толкнуть?» — спрашивал Шарик (вероятно, принимая позу «сверхчеловека»[788]). «Да, — отвечал Передонов, — а мальчишек и девчонок пороть, да почаще, да побольнее, чтобы визжали по-поросячьи»[789]. В диалоге прочитывается цитата из романа Горького «Фома Гордеев» (ср. слова Игната Гордеева: «А ежели который слабый, к делу не склонен — плюнь на него, пройди мимо»; «В гнилой доске — какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтоб ног не замарать…»[790]). В завершение эпизода автор прямо называет литературный источник, посредством которого «вводит» в повествование имя прототипа: «Это выше Фомы Гордеева!» — восклицает Шарик.
В более или менее откровенной форме Сологуб постоянно намекает на Горького. В сатирическом ключе он вставляет в речь Шарика мысли и высказывания, которые по своему пафосу напоминали горьковские («буржуазно-либеральную пошлость надо опрокидывать всеми способами. Пошлого буржуа надо ошеломить, чтобы он глаза выпучил…»), или измененные, но узнаваемые цитаты из произведений писателя («Он выдумывал свой сон… В этом сне были и ширококрылый орел — сам Шарик, — и змея, и ворон, и кроваво-ротые тюльпаны, распустившиеся на лазорево-голубых куртинах»); в издевательском спиче прокурора Авиновицкого по адресу писателей использованы цитаты из рассказов Горького «Старуха Изергиль» и «Ошибка».
Указанием на прототип Шарика служит также упоминание в его писательской биографии о Решетникове и романтизме 1830-х годов. Как известно, Горький среди своих предшественников называл автора «Подлиповцев»; на банкете в редакции «Жизни» он говорил: «Что я в самом деле открыл нового? Прямо-таки сказать — ничего. И до меня босяки были, и о них писали. У Решетникова мало разве об этом?»[791] В автобиографическом рассказе «Коновалов» булочник Максим пытается отвлечь от запоя своего приятеля чтением о решетниковских Пиле и Сысойке. О «марлинизме» в ранней прозе Горького (не реже, чем о его ницшеанстве) писали многие — от Гиппиус до Буренина (например: «Тот фальшивый, давно забытый в нашей литературе тон, который когда-то назывался „марлинизмом“, как будто отзывается отдаленным эхом при чтении даже наиболее удачных очерков г. Горького, посвященных босякам. <…> Я боюсь, что г. Горький как живописец босяков представляется в некотором роде Марлинским наших дней»[792]).
Портретные и цитатные указания на прототип Сологуб дополнил пародийными эпизодами, в которых весьма вольно использовал широко известные факты биографии Горького (именно из-за этих эпизодов главы и сочли пасквилем). «Кандидаты в российские знаменитости», «цвет и соль интеллигенции во главе со знаменитым Шариком», «душевные парни», будучи в нетрезвом виде, попадают в полицейский участок. Они уверены, что этот, «один из массы прискорбных фактов русской действительности <…> перейдет в вечность» («Когда-нибудь в „Русской Старине“ появятся мои мемуары. Там все это будет описанб подробно и сочно»), при этом Шарик намеревался писать о случившемся в немецкую и шведскую газеты и устроить «скандал на всю Европу», которая должна знать, что «Россия еще не имеет европейской гражданственности, свободы печати, свободы передвижения без паспорта…»[793].
С 1889 года Горький почти беспрерывно находился под негласным надзором и неоднократно задерживался полицией по подозрению в связях с социал-демократическими кружками. Сологуб мог не знать этих биографических подробностей, но факт ареста Горького в мае 1898 года, по-видимому, был ему известен: об его освобождении хлопотали И. Е. Репин и баронесса В. И. Икскуль, имевшие самые широкие связи среди петербургской интеллигенции (постоянными гостями в салоне баронессы были Мережковские). Кроме того, сам Горький не раз заявлял, что своей известностью он обязан прежде всего департаменту полиции, который сделал ему рекламу[794].
В начале 1900-х годов популярность Горького приобрела колоссальный размах не только в России, но и за рубежом[795]. В 1904 году вышел сборник «Иностранная критика о Горьком», в котором были помещены переводы статей о его произведениях с нескольких языков (опубликованных в европейской печати в конце 1890-х — начале 1900-х годов); в 1903 году в берлинском «Kleines Theater» М. Рейнхардт поставил «На дне», пьеса пользовалась исключительным успехом.
Герои Сологуба — посредственные литераторы Скворцов и Степанов — воображают себя фигурами мирового значения, борцами за свободу, которых притесняет полицейское государство; их поведение адекватно передоновскому: Ардальон Борисыч мнит себя вольнодумцем, неугодным начальству, опасается доносов и заключения в Петропавловскую крепость.
Аллюзия на известный факт биографии Горького содержится также в рассказе о присутствии писателей на маскараде. 28 октября 1900 года в Московском Художественном театре на представлении «Чайки» во время антракта, в буфете, восторженные поклонники Горького устроили ему овацию, которую тот был вынужден прервать замечанием о ее неуместности. Инцидент широко обсуждался в прессе, и писатель был вынужден прокомментировать его в печати. 18 ноября в «Северном курьере» было опубликовано его письмо в редакцию:
Говоря с публикой, я не употреблял грубых выражений: «глазеете», «смотрите мне в рот», и не говорил, что мне мешают пить чай с А. П. Чеховым, которого в это время тут не было. <…> Я сказал вот что: «Мне, господа, лестно ваше внимание, спасибо! Но я не понимаю его. Я не Венера Медицейская, не пожар, не балерина, не утопленник; что интересного во внешности человека, который пишет рассказы? <…> И как профессионалу-писателю мне обидно, что вы, слушая полную огромного значения пьесу Чехова, в антрактах занимаетесь пустяками»[796].
Сологуб, несомненно, был знаком с этой публикацией, однако, в соответствии с его художественным замыслом, ему было необходимо представить инцидент в стилистике газетных преувеличений.