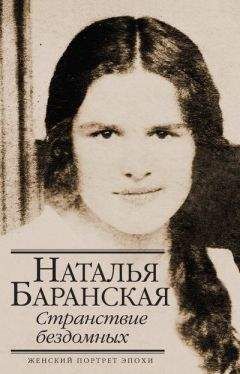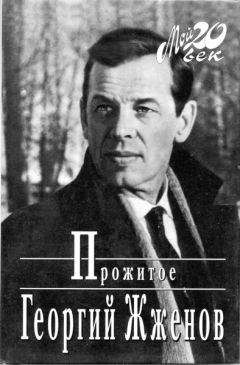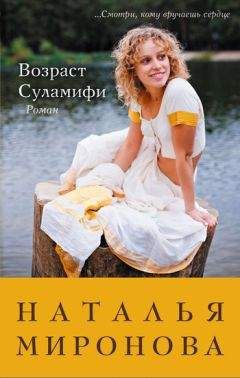Была у меня тогда привычка сравнивать своих товарищей с литературными персонажами. Бибас по внешности и душевным свойствам — серьезный, вдумчивый, добрый, не задиристый, не драчливый, как другие мальчишки, — представлялся мне Пьером Безуховым. Митя Андреев — «военная косточка» по воспитанию или подражанию отцу — казался мне князем Андреем. Ну, а я сама была Наташей Ростовой, не по сюжету, а по близости мне этого образа. Из всех литературных героинь она была самой любимой, многие эпизоды с Наташей в романе я ощущала как написанное обо мне. Но читала я тогда «Войну и мир» по-своему: только «мир», только Ростовы, их жизнь, дом, дружба, любовь…
Дувакин — Пьер Безухов, сопоставление, сохранившееся надолго, и общее было не только во внешности. Большие, широкие, великодушные, оба они двигались среди людей осторожно, никого не задевая, всегда готовые быть опорой, готовые даже к жертве.
Виктор Дувакин пожертвовал любимой работой, спокойствием семьи, чтобы защитить своего ученика Андрея Синявского. На судебном процессе Синявского — Даниэля (1965 г.) Дувакин выступил единственным свидетелем защиты, противостоявшим многим свидетелям обвинения. После этого Дувакину запретили преподавать в МГУ.
В литературно-драматическом кружке, во многих постановках, участвовал и мой двоюродный брат Коля Баранский. Он поступил в школу на год позже меня, в шестой класс; я была уже в седьмом. Детская наша дружба не возобновилась. Пять лет прошло с тех пор, как мы расстались. Мы выросли, изменились, отвыкли друг от друга. Родственные связи поддерживались, но дружбы не получилось. Дружбы не хотела я: Коля мне не нравился — он был тонкий, кудрявый, нежный мальчик, а тонкость и нежность еще подчеркивались бархатной разлетайкой и галстуком-бантом. Что-то женственное было в его облике, и, подметив это, одноклассники прозвали его Верочкой. Это было уж слишком! Коля писал стихи, ему хотелось и внешне походить на поэта. Блузы, толстовки, шарфы-банты и отложные воротнички были тогда в моде и считались признаком художественной натуры. В общем, Коля был Ленский; мне же нравился Онегин.
Почему тогда, в годы отрочества, я так сурово обходилась со своими «поклонниками»? Не могу определить глубинных причин, но отлично помню, что не терпела, когда меня разглядывали, хвалили мою внешность, говорили мне комплименты. Однажды, когда Коля, будучи в лирическом настрое, при свете свечи (мы гостили у сестры в Истре) долго смотрел на меня молча и сказал: «Какой у тебя красивый подбородок!», я так накинулась на него, будто он обозвал меня дурным словом.
В этой второй в нашей жизни встрече почти оборвались нити прежней близости, я оттолкнула Колю, и мы разошлись надолго. Среди своих одноклассников он нашел друзей, близких ему по натуре и увлечениям. Первым из них был Дувакин-Бибас. У них сложился свой узкий кружок — две девочки и трое мальчиков. Витя Дувакин остался другом Коли на всю жизнь.
У меня была своя компания. Мы собирались вместе по-домашнему, отмечали дни рождения, знали родителей своих друзей, а они привечали нас. На наших вечеринках не было вина — разве по рюмочке под Новый год; не было, к сожалению, и музыки. Мы веселились по-детски: в играх с фантами, в шарадах. Шуму, гаму и смеху хватало на несколько часов, и расставаться нам не хотелось.
Иногда бывали у меня «девичники»: две-три пары девчонок собирались потанцевать после уроков. В школе танцев не было, а танцевать нам хотелось. Не думаю, чтобы Вера Ильинична следовала общей установке, отвергающей танцы как мещанство. Скорее, они не вписывались в ее программу спартанского воспитания. А каким девочкам не хочется потанцевать! Кто-то, кажется Шура, знал бальные танцы прежних лет. Может, их танцевали когда-то в высшем обществе, но к нам они попали в самой что ни на есть мещанской аранжировке. Музыку заменяли песенки, и у каждого танца была своя.
Падеспань шла под такую музыку:
Падеспанец — хорошенький танец,
Он танцуется очень легко…
Падекатр звучал так:
Па-а-паша, купите мне шляпу и барабан,
Я поеду к бурам бить англичан.
Краковяк отплясывали с «польским акцентом»:
На там-той строке Вислы
Компалася врона,
А пан поручнек мышлил,
Цо то его жона.
И наконец, полечка вприпрыжку:
На паркете восемь пар
Мухи танцевали,
Увидали паука —
В обморок упали…
Прошли первые два года учения, заканчивался седьмой класс. Школа переезжала на новое место — в Леонтьевский переулок у Никитских ворот, в здание бывшего реального училища. Это был не только переезд. Менялись времена, менялась и школа. Она не стала плохой, но становилась другой. Но прервем рассказ о школе, чтобы поведать об ином.
В марте 1923 года арестовали маму. Был вечер, у нас сидела гостья, Анна Петровна, знакомая мамы и П. Гарви. Маленькая Сильвия Гарви придумала для А. П. такую дразнилку: «Две щеки, как мешки, толстые, как пироги». Добрая некрасивая Анна Петровна и мама вели разговор, а я была занята своим делом: разбирала открытки, их у меня была целая куча. Я болела ангиной, мне полегчало, но я еще лежала, раскладывая поверх одеяла свою коллекцию по «жанрам» и приговаривая: видовая, цветочная, пупсе. Последнее означало игрушки, пупсы, куклы. «Вот тебе и пупсе!» — говорили мы, вспоминая впоследствии этот вечер. За нашими голосами мы прослушали появление «гостей», их шаги по коридору. Раздается громкий стук, дверь сразу открывается, и входят трое в военном. Я ничего не понимаю — солдаты, зачем они? Мама понимает всё. В бумажке, которую ей дают, было написано: «На обыск и арест». Я еще не знаю, что такое ордер. Об арестах и обысках имею представление по маминым рассказам из прошлого. Но именно это «прошлое» никак не объясняет происходящее, оно кажется странной ошибкой.
Чекисты роются в наших вещах, читают папины старые письма, которые я берегу, листают книги. Я сгребла открытки в кучу, лежу замерев, но наблюдаю с интересом. Копаются в маминой постели, заворачивают матрас. «Ребенка не трогать!» — властно говорит мама, ее почему-то слушаются и к моей кровати не подходят. Один из «солдат» (тогда я их называла так) вертит в руках шкатулку из березового наплыва, подарок дяди Вани, пытаясь угадать, что это. Мама не дает ему задуматься: «Это шкатулка, в ней мы держим нитки, открывается вот так». Нитки, действительно нитки. О том, что еще есть в шкатулке, что спрятано в ее двойном дне, знала тогда только мама: там лежал номер «Социалистического вестника», меньшевистской газеты, издание которой организовал уехавший за границу Мартов. В пересылке корреспонденции, в получении и распространении номеров «Вестника» принимала участие и моя мама. Обо всем этом я узнаю позже. Тогда же мамина предупредительность показалась мне неуместной: зачем помогла плохим людям, вторгшимся в наш дом?