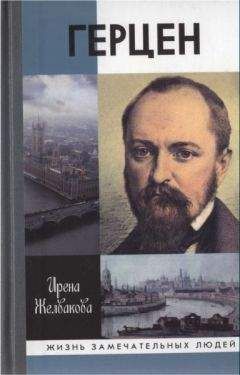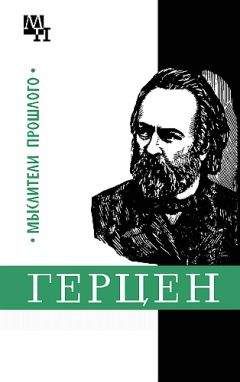Письма — хранители вечности. Каждодневная летопись событий. В будущем они — наилучшая подмога памяти, особенно для мемуариста. Известно, письма — его творческий строительный материал. С течением времени он подберет для них множество определений, характеристик, оценок, по которым, как по нотам, можно «проиграть» моменты его изменчивой судьбы.
«Письма любви — достояние личности — они будто теряют свежесть, попадая в третьи руки…» Взгляд молодого Герцена изменится: ведь он уже прожил значительный кусок своей воображаемо-реальной жизни в любовной переписке и не преминет ею воспользоваться при работе над «Былым и думами». Письма будут представлены и «как сухие листы» воспоминаний, как приметы и напоминания об ушедшем, цветущем, «другом лете», которое не повторится вновь. Когда придется решать личную судьбу, противостоять сопернику, на первый план выйдет «взаимоистребительная переписка». Письма, на которых «запеклась кровь событий», отразят «общее» в трагической судьбе мира.
Конечно, первые письма из предреволюционного Парижа — с Avenue Marigny, пишутся Герценом для печати в подцензурном «Современнике». Поэтому постоянно являющийся «красный призрак» цензурных чернил автора не оставляет. С точки зрения цензуры, письма уязвимы и кромсаются до такой степени, что Герцен вынужден написать Некрасову: «Если его письма сильно обрежет цензура, то не печатать их». Некрасов, как редактор «Современника», отважно борется с цензорами за своего лучшего и, как он подчеркивает, «щепетильного к таким вещам» сотрудника. Но потери в публикациях несомненны.
Первое письмо собранного цикла из четырнадцати «Писем из Франции и Италии» Герцен начинает с парадоксального признания, с заманчивых размышлений праздного туриста образца весны 1847 года, что «ничего не может быть печальнее для путника, вошедшего во вкус, как приезд в Париж. <…> он чувствует, что приехал, что далее ехать некуда…», и доводит исследование территории «по ту сторону Рейна» с неизменной уверенностью, что «везде скучно». «Разумеется, разные скуки в разных местах. <…> В Париже — весело-скучно, в Лондоне — безопасно-скучно, в Риме — величаво-скучно, в Мадриде — душная скука, в Вене — скука душная». Все это Герцен напишет через три с половиной месяца странствий по Европе, когда обоснуется на время в Париже.
Через 20 лет «благочестивый пилигрим севера», вступивший впервые во французскую столицу как турист, отважится выступить в роли гида, предоставив читателям «Путеводителя по Парижу» («Paris-Guide par les principaux écrivains et artistes de la France») свои воспоминания. Подобные «засохшим цветам, рисункам, наполовину стершимся», побитым временем и обстоятельствами, эти первые впечатления Герцен не сочтет возможным подновлять, ибо не знает «ни отстроенного заново Парижа» 1860-х, ни живущих в нем современных русских.
У русских особое чувство к Парижу, незнакомое парижским аборигенам, — заметит он в своих размышлениях о соотечественниках во Франции, — «это чувство, которое мы испытывали, вступая в первый раз в Париж. Для нас с самого детства Париж был нашим Иерусалимом, великим городом Революции, Парижем… 89, 93 года».
Мирному Парижу, его быту и нравам, рассуждениям о кухне, слугах, квартирах посвящено и второе письмо цикла с датой 3 июня 1847 года, развивающее не менее остро театральную и общественную темы, связав их в крепкий узел. Герценом ставятся все новые вопросы: «…остается узнать, весь ли Париж выражают театры, и какой Париж — Париж, стоящий за ценс, или Париж, стоящий за ценсом; это различие первой важности.
— Знаете ли, что всего более меня удивило в Париже? — спрашивает автор „Писем“ читателя. — „Ипподром? Гизо?“ — Нет! — „Елисейские Поля? Депутаты?“ — Нет! Работники, швеи, даже слуги, — все эти люди толпы до такой степени в Париже избаловались, что не были бы ни на что похожи, если б действительно не походили на порядочных людей. Здесь трудно найти слугу, который бы веровал в свое призвание, слугу безответного и безвыходного, для которого высшая роскошь сон и высшая нравственность ваши капризы, — слугу, который бы „не рассуждал“».
«„Избалованность“, о которой мы говорили (читай: достоинство личности, — И. Ж.), одно из последствий прошлого переворота… Большая часть парижских слуг и работников — дети и внучата солдат „великой армии“… Несмотря на отеческие старания иезуитов и вообще духовных во время Реставрации воспитать юное поколение в духе смирения и глубокого неведения своего прошедшего, это было невозможно». (Герцен невольно склонялся к воспоминаниям и сравнениям с положением слуг и крепостных людей, которых не мало повидал он в России, хотя бы во владениях отца.)
Париж свободных граждан, «за ценсом стоящий», противопоставлен Парижу «буржуа, проприетера, лавочника, рантье и всему Парижу, за цене стоящий».
Это ставшее хрестоматийным в работах о Герцене противостояние двух миров, двух Парижей (и один из главных вопросов первых «писем»), означает только одно — ограничение избирательного закона в Июльской монархии суммой прямых налогов не менее 200 франков в год. Понятно, неоправданно высокий ценз отдавал власть крупной буржуазии и исключал из политической и общественной жизни не только пролетариат и почти все крестьянство, но часть мелкой и даже средней буржуазии. Герцена, очевидно, поразила циничная филиппика, приписываемая историку и премьер-министру правительства, Ф. П. Г. Гизо: «Обогащайтесь, и вы станете избирателями!»
Герцен прекрасно осведомлен о современной политической, экономической и общественной жизни Франции. Немалое время уделено им посещению политических клубов, палат пэров и депутатов, в которых ведутся еще бурные дебаты. Он завсегдатай всяческих судебных заседаний, разбирательств, следит за громкими процессами, на которых до времени выносятся законные, праведные решения. Тонкая наблюдательность и не утрачиваемое любопытство дают возможность Герцену создать живое представление о стране, несомненно, стоящей на пороге катастрофических перемен; составить мнение о ее устройстве, понять перекосы Июльской монархии и режима «ничтожного Людовика-Наполеона». Ведь король здесь — только номинально король, вся власть у финансовой буржуазии.
Герцен стремится исследовать все стороны парижского образа жизни. Его занимают особенности сложившегося исторически, гуманного юного поколения, живого, веселого французского характера, склонного к шутке и каламбуру. Но нынче, считает он, идеи охладели, «зацеплять политику» немодно, да и страшновато, даже на театре; фрондерства не видно, а буржуазные добродетели, касающиеся героизма и высокой отваги, и подавно утрачены. Все это прежде всего отразилось на сцене, где «легкая веселость» обратилась в «сальные намеки» и т. п. Развернутые высказывания о буржуазной культуре, о театре в «Письмах из Франции…» продолжили и развили некоторые темы, ранее изложенные в личном письме М. С. Щепкину.