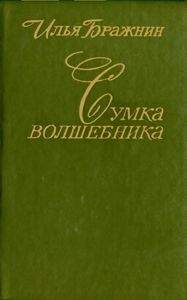Пушкин был убеждён, что не голый восторг обуревает поэта в минуты высокого вдохновения, что разум тоже имеет тут свою, и немалую, долю участия. Ведь он же был открытым последователем великих рационалистов восемнадцатого века: Вольтера, говорившего, что «вдохновение нераздельно с деятельностью разума», Бюффона, утверждающего, что «работа ума, то длительная, ровная, то повышенная, но беспрерывная, терпеливая, есть первый признак гения, чаще других посещаемого вдохновением».
Это были воззрения и мысли, родственные воззрениям и мыслям самого Пушкина. Слив их воедино и соединив с собственной оригинальной концепцией, Пушкин даёт чёткое изложение этой новой точки зрения в заметке «О вдохновении и восторге». Принципиальность позиции Пушкина и полемическая направленность его мыслей нашли своё отражение в самом заголовке заметки, в первых строках её.
Пушкин против тех, кто «смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно к объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие — необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно не в силах произвесть истинно великое совершенство».
Как видите, пушкинское понимание вдохновения есть решительный шаг вперёд в определении вдохновения. Это совершенно новое слово, значительно расширяющее полемический плацдарм и самое понятие вдохновения, которое, по мнению Пушкина, «нужно в геометрии, как и в поэзии». Он вводит как необходимейшую составную вдохновения новую категорию — спокойствие, на котором, как мы увидим из последующего, поэт настаивает особо подчёркнуто. Он вводит и понятие прекрасного, а в конце полагает как необходимый результат вдохновенного труда «истинно великое совершенство».
Вот для чего стоит и долженствует вдохновенно трудиться. Вот что центр и главный смысл определения старого понятия. Вот в чём воинствующая новизна пушкинской формулы вдохновения и коренное отличие её о г всех предшествующих, в частности и в особенности от державинской. Вдохновение нужно не для того, чтобы, схватив в упоении лиру, петь, «что велит сердце». Одна поэтическая искренность — это слишком мизерная плата за то высокое, что несёт художнику вдохновение, слишком незначительный повод для того, чтобы призывать его. Вдохновение — это инструмент, при помощи которого можно и должно «произвесть истинно великое совершенство». Для этой цели и должен трудиться художник. Для осуществления её и необходимо вдохновение.
Это принципиально новый взгляд на вдохновение, принципиально новая и широкая платформа художника. Это уже не только определение, и несравненно больше, чем спор о желаемом. Это требование. Это программа действий. И чтобы выполнить требуемое, нужны «сила ума», трезвость и спокойствие, обязательно спокойствие. На спокойствии мятущийся Пушкин особенно настаивает и постоянно возвращается к этому мотиву — не только в своих теоретических высказываниях, но и в письмах к друзьям, даже в интимных письмах к жене.
В тридцать пятом году, то есть спустя одиннадцать лет после своей программной заметки «О вдохновении и восторге», Пушкин пишет жене в Петербург из Тригорского: «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а всё потому, что не спокоен».
Переломив себя, Пушкин вскоре начал всё же писать, но работалось худо и желанного вдохновения не было. Три недели спустя после приведённого письма к жене Пушкин писал в Петербург другу своему П. Плетнёву: «В ноябре я бы рад явиться к вам; тем более, что такой бесплодной осени отроду мне не выдаивалось. Пишу — через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен».
Спокойствия не только не было в те дни у Пушкина, но оно и не могло явиться. Это было за год с небольшим до гибели поэта, когда его отправили в очередную ссылку. Царь изгнал его из Петербурга и запретил издавать газету, которую сперва было разрешил. В письме к жене той же осенью Пушкин жалуется на царя. Он «не даёт мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошко деньги трудовые и не вижу ничего в будущем».
Несколькими днями раньше в другом письме к Наталье Николаевне Пушкин тревожится тем же: «Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода... Всё держится на мне да на тётке. Но ни я, ни тётка не вечны. Что из этого будет — бог знает. Покаместь грустно».
Грустные, озабоченные, тревожные письма, которые писались в Михайловском, летели в шумный, блестящий Петербург, где жила Наталья Николаевна и где плелись последние интриги против изгнанника, почти лишённого возможности работать. Вскоре лишили его возможности и жить. Он это предчувствовал. Писал, что он «не вечен». Писал: «... не вижу ничего в будущем».
Будущего при жизни у загнанного поэта в самом деле не было. И конечно, не могло быть речи и о спокойствии. Тем острей и жадней желалось оно. Нужно было оно и для жизни и для работы. Это было «необходимое условие прекрасного» и обязательная составная часть вдохновения.
Не следует думать, что взгляды поэта обусловлены были только жизненным состоянием его. Так же думал и писал о вдохновении и спокойствии Пушкин одиннадцать лет назад, когда жизненные обстоятельства были иными.
Двуединство спокойствия и вдохновения, на котором настаивает Пушкин, может показаться на первый взгляд необычным, странным, даже невозможным. Вдохновение — это ведь прежде всего взволнованность и приподнятость, то есть состояние, прямо противоположное уравновешенности и спокойствию. По трезвому разумению и по логике, оба состояния кажутся исключающими друг друга и несовместимыми.
Но у художника и у художнических состояний — своя логика и свои законы. И по этим неукоснительным законам художник не только может, но и обязан быть одновременно и горячим и холодным, и чувственным и рассудочным, и сопереживателем всему сущему и наблюдателем. Пушкин держался этого не только в своих теориях, но и в художнической практике своей. Годом раньше своей заметки «О вдохновении и восторге» он в последних строчках посвящения, предваряющего «Евгения Онегина», определяет весь свой роман в стихах как результат «ума холодных наблюдений и сердца горестных замёт».
Жар сердца и холод ума, соединённые в одно, — вот что водит пером художника, вот что — его практика. Может статься, действительно для объяснения этого феномена лучше всего обратиться к самой практике великих. Тут же, к случаю, пожалуй, сошлюсь на Анну Каренину, которая, по авторской ремарке, «была возбуждена, а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать».