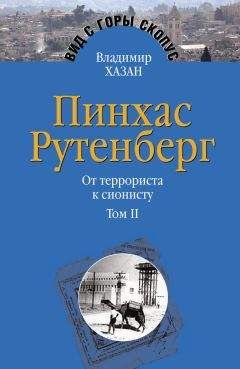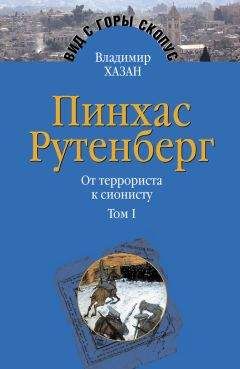2. Брату Авраму переходит в распоряжение и собственность все, что бы ни осталось после меня. Он дает £5000 дочери моей и по £2500 каждому из двух моих сыновей и поможет им на эти деньги устроиться как можно достойнее и продуктивно. Брат Аврам будет содержать старуху-мать до ее смерти. Он же останется моим trustee24 для заведования и управления учреждениями и делами, которые оставлю и которые должны стать собственностью еврейского ишува в Палестине. Ни одного гроша не должно быть взято для кого бы то ни было вне Палестины.
18. 11 <1>935
H<aifa>
Rut<enberg>
Рутенберговское завещание существует в нескольких вариантах (см. далее). В одном из них имеются два небезынтересных фрагмента, отсутствующих в других (RA):
Многие мне завидуют. Имеются ненавидящие. Но имеются многие любящие. Искренне. Что-то существенное во мне уважающие. Пред последними считаю своим долгом отсчитаться за свою жизнь. Перед моей смертью.
Всегда жил интенсивно трудно. Не раз в жизни ошибался. Но ошибался честно. Не из-за мелочно личных мотивов. Всегда считал своим долгом давать, служить. Зла никому не хотел. Кому неволь-ко причинил – жалею. Тех, кто мне зло причинил, ничего не имею <sic>. Не потому что «христиански» чувствую. А потому что счеты эти мелочны. Ничего большого в жизни большой не представляют собою. Большое зло причинил моим детям, тем что был причиною их рождения на свет в таких по нашему времени ненормальных условиях. Но люди, и я в том числе, манекены в таких поступках. Виноват ли я? Платил во всяком случае за это дорого всю жизнь. Раз в жизни свихнулся. Перешел границу, нам, маленьким людям, дозволенную. И никак потом справиться не мог. Дети выросли, люди неплохие, но мне чужие. Связать их жизнь с моею немыслимо.
И второй – еще более пессимистичный:
Людям делал много добра. Искренне. Никогда не интересовался получить за это спасибо. Имею право требовать в оплату не беспокоить меня после моей смерти ни речами, ни статьями, ни митингами, ни воспоминаниями, никакими памятниками. По существу жизнь моя трагична – неиспользованием большого богатства, отпущенного мне. Самое удовлетворительное для меня – как можно скорее забыть меня. Самое лучшее, самого себя отдал народу. За немногими исключениями, все, до чего дотрагивался – самого фантастического, – успевал. Даже до Палестины. И все-таки я банкрот. По причинам, не от меня зависящим.
Умер он не от сердечной болезни, а от рака желудка, который обнаружился в начале 1941 г., примерно за год до смерти. Состояния временного легкого улучшения сменялись затяжными кризисами, пока не наступил конец. Это случилось под утро в субботу 3 января 1942 г. в иерусалимской больнице «Хадасса». Похороны состоялись на следующий день. Согласно воле покойного, они были крайне скромными – без цветов и погребальных речей. Прощание с телом, завернутым в талес, происходило в больничном зале ожидания.
Свечи, горевшие вокруг завернутого в талес тела, и звуки произносимой шепотом молитвы производили потрясающее впечатление, – писала на следующий день газета «Davar» (1942. № 5018. 5. 01). – Иерусалим еще не видел таких скромных проводов столь известных людей.
В это время в Иерусалиме лежал снег, обильно выпавший на Новый год: такого не было за последние 20 лет. Похоронная процессия пробиралась среди сугробов на Масличную гору, на древнее еврейское кладбище – самое почетное место в мировом еврейском некрополе. На этом кладбище Рутенберг и был похоронен.
Между завещанием, приведенным выше, и тем, что было официально опубликовано после его смерти (см.: Davar. 1942. № 5018. 5. 01), имеется известная разница. В печатной версии, под которой стояла дата 14 октября 1941, не упоминались ни кремация, ни вентиляторы, – напротив, говорилось о том, чтобы тело предали земле, и в качестве места захоронения называлась Масличная гора. В соответствии с последней волей покойного, похороны должны были быть предельно скромными, без цветов и отпевания – таковыми они, как было сказано, и оказались на самом деле. Свой фонд Рутенберг завещал молодежи еврейского ишува. Специально оговаривалось, чтобы из этих денег ничего не тратилось бы на увековечение его памяти. Рутенберг просил не называть его именем улицы или какие-либо еврейские поселения.
Так не стало того, в чью жизнь – по обилию событий и совершенных крупных исторических дел – могло свободно вместиться несколько других человеческих жизней, и все из области самых незаурядных. О победе над судьбой говорить, конечно, не приходится, но нельзя по достоинству не оценить того, что с выпавшей на его долю миссией мог справиться только человек, наделенный, как Рутенберг, недюжинными силами. Однако самым, пожалуй, интересным и неожиданным в этом незаурядном характере была его непохожесть ни на кого другого, путающая карты несводимость к «общему знаменателю», трудно уловимая и ускользающая от четких рациональных дефиниций личностная многомерность и многоплановость. Не будучи человеком легким для окружающих, отличаясь прямотой и жесткостью суждений, решений и приговоров, Рутенберг, однако, мучительно страдал от собственной – порой вынужденной – роли сурового лидера. За маской этой суровости жили в его сердце нежность, доброта и старомодные представления о чести и благородстве. Увы, это далеко не всегда было ведомо и внятно окружающим. Рутенберг, очевидно, хорошо чувствовал и понимал свою отгороженность, обособленность от других и вытекающую из этого свою для них необъяснимость. В одной из его дневниковых записей так и сказано (11 мая 1937):
Живу и временами делаю то, что делать всеми силами не хочу. Обязан. Когда меня не станет, я соберу там их всех и объяснюсь подробно со всеми и с каждым в отдельности.
Остается надеяться на то, что исторические деятели большого и малого калибра в результате своих «послесмертных объяснений» становятся более понятными если не для своих современников, то хотя бы для дальних потомков.
____________________________________________
1. Як. 1917:4.
2. См., например, в письме В. Зензинова Рутенбергу от 18 марта 1935 г. (RA):
А<малия> О<сиповна> была очень довольна Вашему письму и нескольким лицам с гордостью рассказывала о том, что поедет к Вам в гости в Палестину, где Вы будете катать ее на автомобиле.
3. Дословно: ‘осужденная (закрепощенная) жизнь, здесь в смысле ‘обреченная’ (англ.).
4. Сионистский деятель, сахарозаводчик, меценат, журналист Гиллель Златопольский (1868–1932) родился в Кременчуге в состоятельной еврейской семье. Член Центрального бюро Сионистской организации Украины (1917). В 10-е гг. был членом петербургского «Еврейского литературного общества», куда также входили С.Л. Цинберг, И.М. Бикерман, Б.Г. Столпнер, С. Ан-ский и др. (см. отчет о его деятельности: И.Ч. 1910: 35-7). С юности выказав литературные склонности, проявил себя в совершенно иной области – банковского дела. Как меценат финансировал школы с преподаванием на иврите и еврейский театр «Габима» в пору его московского существования (см.: Иванов В. 1999: 13, 16, 32, 33, 224), в частности именно он купил у С. Ан-ского пьесу «Дибук» для этого театра (Gnesin 1946:119-20; в переводе на русский язык этот фрагмент см.: Иванов В. 1999: 32-3), ставшую впоследствии самым ярким и известным его спектаклем. Был одним из основателей Керен ха-Иесод (основной финансовый фонд Всемирной сионистской организации и Еврейского агентства) и входил в первый совет его директоров. См. некрологический очерк: Fridman 1933: 6–8.