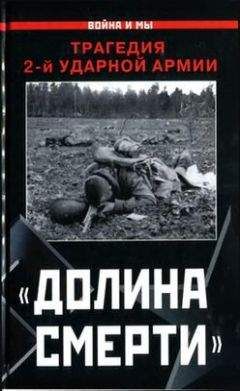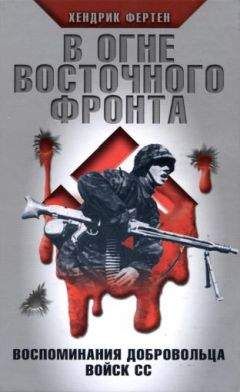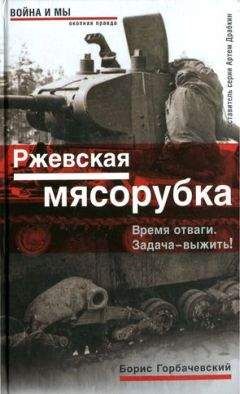А в это время в медсанбат пришел раненый Саша Ермолаев, который все время был командиром санвзвода первого стрелкового батальона. Воевал он хорошо, смело. Сам лично участвовал в боях, в его батальоне всегда все раненые были вынесены с поля боя. Его все уважали. В январе 1942 г. Саша получил письмо соседки по квартире о том, что умерла его мать. Больше у него родных не было. Я дал Саше адрес своих родителей и записку о том, что если Саша останется жив и после войны приедет к ним, чтобы приняли его как сына. Так и случилось. Саша в 1946 г. после демобилизации приехал в деревню к моим родителям. Устроился фельдшером в лесном поселке Долгая недалеко от нашей деревни, женился, имел двоих детей. Но прожил недолго: в 1950 г. умер от туберкулеза, а жена с детьми уехала к родителям в Кировскую область.
А тогда я сразу сказал Саше о предложении А. П. Асоскова. Он согласился. Предложили идти с нами старшему лейтенанту Виноградову и политруку роты (фамилию не помню, знаю, что татарин). Они согласились, и мы все стали готовиться к выходу. А что было готовить? Пистолеты TT с запасными обоймами и по одной гранате-лимонке. Продуктов никаких, вещей — тем более. Сами крайне истощенные, голодные.
Вышли мы 28 июня из МСБ и часам к 11 вечера были у горловины со стороны кольца. Белая ночь. Ждали более темного часа. Примерно в половине второго ночи решили идти. В это время горловина простреливалась реже. Виноградов и политрук в последний момент почему-то решили вернуться в медсанбат. Мы с Ермолаевым короткими перебежками, с большой осторожностью пошли и часам к трем одолели эти, как нам показалось, очень длинные 800–900 м.
Оказались в окопах нашего внешнего фронта. Были подхвачены на руки дорогими, самыми желанными в те трагические минуты солдатами. Нас тут же направили на питательный пункт. Но есть мы не могли, настолько было сильно нервное напряжение. Мы здесь же, на пункте, легли под кустами и уснули. Спали до позднего вечера 29 июня. А вечером нас накормили, сделали перевязки и отправили в тыл. Утром 30 июня мы оказались в госпитале г. Боровичи.
Потом было лечение в госпиталях Рыбинска, Ярославля, Магнитогорска. Навсегда запомнились минуты расставания с Алексеем Петровичем Асосковым, командиром медсанбата-46, когда мы готовились к выходу из кольца. В медсанбате скопилось большое количество тяжелораненых. Возможностей для эвакуации никаких. С ранеными оставался весь личный состав медсанбата. Тут я спросил Алексея Петровича: «А как же вы, Алексей Петрович?» Он положил руку на мое здоровое плечо и ответил: «Сынок, мы же советские медики, русские люди, как же мы должны поступить? Мы все разделим судьбу раненых». И они остались с ранеными там, в кольце 2-й ударной. Какова их дальнейшая судьба? Не знаю. Но уверен, что все они — врачи, фельдшеры, медсестры, санинструкторы, санитары — совершили подвиг. Пусть даже оказались в плену вместе с сотнями беспомощных раненых бойцов и командиров нашей ударной армии, участников труднейшей Любанской операции.
А. В. Байбаков,
капитан в отставке,
бывш. военфельдшер 176-го сп 46-й сд
И. И. Беликов
Удерживая «коридор»
Война застала меня в Карелии, где проходил действительную службу. Для нашего 81-го Краснознаменного стрелкового полка бои начались с самых первых дней. В октябре меня ранило в голову, и я попал на излечение в Архангельск, в госпиталь № 1770.
С февраля 1942 г. в пригородах Архангельска проходила переформирование 2-я сд, известная еще с Гражданской войны. Пополняли ее жители Архангельской области да заключенные, строившие железную дорогу по берегу Онежской губы. После выписки меня направили в 261-й полк этой дивизии помощником командира взвода связи при стрелковой батарее.
В апреле полк погрузили в эшелоны и отправили кружным путем на Волховский фронт, в 59-ю армию. Помнится, сильно бомбили в Бологом: все пути были забиты горящими вагонами. Мы добрались до Малой Вишеры благополучно. Оттуда — марш по весенней распутице до Селищенских казарм на берегу Волхова. По пути следования половина лошадей погибла в болотах. Пришлось на солдатском горбу тащить военную технику, боеприпасы и другое снаряжение. Когда добрались до Селищ, солдаты выглядели как живые скелеты: кормили нас по 3-й категории — в сутки два сухаря да котелок супа, в котором крупина крупину догоняет…
Полк получил приказ: переправиться на левый берег Волхова, прорвать оборону противника у Спасской Полисти и соединиться с окруженной 2-й ударной армией. Ночью переправились в районе совхоза «Красный ударник», и наутро — в бой.
Вооружение у нас тогда было суворовское, и действовали по Суворову: «Пуля — дура, а штык — молодец!» С длинными штыками, с допотопными винтовками мы и вступили в бой против немецких автоматов, против танков и авиации.
Ранним утром 1 мая наш полк начал наступление. «Катюша» дала залп термитными снарядами, и одна из немецких огневых точек заглохла. Мы пошли в атаку. В первые же минуты боя были убиты комбат, начальник штаба батальона и мой командир взвода младший лейтенант Мирошников. Но все же наш полк углубился на 2 км в тыл фашистов. При этом мы захватили продовольственный склад. Он-то и оказался ловушкой — местом гибели моих однополчан. Когда мы, голодные, как волки, набросились на еду, начались бомбежка и артобстрел.
От нашего взвода из 25 человек в живых осталось пятеро: Николай Шелест, Введенский, Алексей Фомин, ездовой Родионов и я…
Когда стемнело, мы отползли на кладбище солдат нашего полка. Комиссар полка — в новой шинели, с тремя полевыми шпалами в петлицах — сидел под сосной. Сосну вывернуло взрывом, и голова комиссара лежала по одну сторону дерева, а туловище — по другую. Повсюду земля была перемешана с кровью. Живые, с оторванными руками и ногами, просят: «Браток, пристрели…» У одного осколком вырвало кишки, перемешало с землей — тоже умоляет прикончить…
На всем прорыве немецкой обороны — 500 м по фронту — был завал трупов и раненых. Санитары пытались выносить раненых, но немцы доставали их с самолетов, которые летали над самой головой весь световой день…
По утрам, когда не было бомбардировки, мы занимали оборону на переднем крае. Ночью стаскивали трупы и делали из них настил, чтобы не лежать в болотной воде. Так прошло 10 суток. О нас вроде забыли: не доставляли ни еду, ни боеприпасы.
На десятый день встал я рано и пошел поглядеть: не остался ли кто из наших в живых? Меня заметили немцы и орут: «Иван, иди кашу кушать!» А стрелять не стреляли — совсем нас не боялись. Мне же в тот момент даже хотелось, чтобы пристрелили: все лучше, чем голодная смерть в болоте.