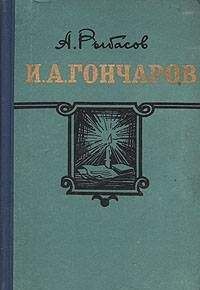Приведенные выше суждения Гончарова обусловлены во многом его собственной творческой практикой. Особенности своего творчества писатель возводил в закон искусства вообще. Старую жизнь он умел изображать, новая жизнь решительно не давалась романисту, не раз признававшемуся в том, что он с «современными типами русского общества вовсе не знаком».
Позиция Гончарова обеспечила ему успех в изображении старой жизни, в создании ее типических образов (Обломов), но оказалась решительно ограниченной и тенденциозной при изображении новых типов (Волохов).
Тревога за судьбу литературы заставляла писателя советовать молодым талантам не стоять на «скользкой дороге крайнего реализма», придерживаться «старых учителей», не отказываясь от законного развития новых шагов в искусстве, если эти шаги не будут «pa de geant»[212] и не будут колебать «основных законов искусства».
* * *
Гончаров чрезвычайно интересовался проблемой типичности в искусстве. Типическое в искусстве, по мнению писателя, достигается обобщением явлений и фактов действительности. «Ведь обобщение ведет к типичности», — указывал он.
Типические образы, или типы, — это, с точки зрения Гончарова, «есть зеркала, отражающие в себе бесчисленные подобия — в старом, новом и будущем человеческом обществе» («Лучше поздно, чем никогда»).
Гончаров считал, что если человек изображен правдиво, то его «образ верен характеру», заключает в себе и общее и индивидуальное.
Какие же особые условия, с точки зрения Гончарова, нужны для того, чтобы образ, характер стал типом? Прежде всего, говоря о «типе», Гончаров имеет в виду «нечто очень коренное и надолго устанавливающееся и образующее иногда ряд поколений». Образ становится типом с той поры, когда он «повторился много раз и много раз был замечен, пригляделся и стал всем знакомым». Не следует поэтому, говорит писатель, изображать те явления, о которых неизвестно, «во что они преобразятся и в каких чертах на более или менее продолжительное время».
По поводу одного персонажа в очерке Достоевского «Маленькие картинки» (сборник «Складчина») Гончаров писал: «Если зарождается, то еще не тип».
На основании этих суждений в некоторых работах о Гончарове утверждалось, что теория типа и типизации у него консервативна по своему существу. Это ошибочное мнение. Если эстетические взгляды Гончарова рассматривать в связи с той обстановкой, в какой он выступал, то станет видно, что суждения Гончарова не консервативны, или во всяком случае они не были консервативными в сороковых-пятидесятых годах. В вопросе о типе и типичности в искусстве Гончаров в основе исходил из воззрений Белинского и Гоголя. Белинский призывал изображать действительную, а не вымышленную жизнь, и в условиях борьбы с крепостничеством и реакцией изображение существовавшей, «устоявшейся» жизни было важнейшей задачей литературы и искусства. Крепостническая действительность, бесправие, отсталость, обломовщина были как раз теми сторонами «устоявшейся» старой жизни, которые «отрицали» художники так называемой натуральной школы. Тип помещика-крепостника, бюрократа-чиновника, типы гоголевских «небокоптителей», гончаровских обломовцев, обитателей «темного царства» Островского были как раз выражением той «устоявшейся» жизни, нравов и быта, с которыми шла борьба передовых сил русского общества и русской литературы.
Следовательно, если иметь в виду сороковые-пятидесятые годы, гончаровская теория типа как раз отвечала задачам текущей жизни. Но в шестидесятых-семидесятых годах, когда новые, революционно-демократические идеи и стремления двинули развитие русского искусства и культуры намного вперед и когда самые передовые художники стали стремиться изображать жизнь и человека не только такими, какими они есть в данный момент, но и какими они становятся и станут в будущем, — в те годы, в ту пору точка зрения Гончарова на тип и типичность стала уже ограниченной, что, однако, не позволяет ее характеризовать вообще как консервативную. На определенном историческом этапе гончаровское понимание типа и типизации в искусстве было плодотворным и закономерным. Вот почему не следует отказываться от этих положений в эстетике Гончарова. Марксистско-ленинская эстетика вовсе но отрицает, что художники должны изображать устоявшуюся, укоренившуюся жизнь.
* * *
Искусство Гончаров определяет как «воспроизведение жизни». Наблюдаемая художником правда действительности, по мнению Гончарова, сперва отражается в его фантазии, а затем он переносит эти отражения в свое произведение. Это, говорит Гончаров, и есть «художественная правда». Процесс художественного творчества, в понимании Гончарова, в том и состоит, что «художник пишет не прямо с природы и жизни, а создает правдоподобия их, т. е. образы». На основании этого Гончаров приходит к выводу, что «художественная правда и правда действительности — не одно и то же». В письме к Достоевскому от 14 февраля 1874 года эта мысль конкретизируется следующим образом: «Вы знаете, — пишет он, — как большею частью в действительности мало бывает художественной правды — и как… значение творчества именно тем и выражается, что ему приходится выделять из натуры те или другие черты и признаки, чтобы создавать правдоподобие, то есть добиваться своей художественной истины». Это суждение об отборе художником материала действительности в общей форме верно и указывает на то, что Гончаров был против натуралистического понимания правды в искусстве. Он требовал и добивался «типичной правды».
Верны мысли Гончарова о соотношении в искусстве тенденции, (идеи) и образа. «В искусстве, — писал он в «Необыкновенной истории», — только образ и высказывает идею, и притом так, как словами и умом… рассказать нигде нельзя. Выйдут не образы, а силуэты». В том же случае, указывает Гончаров, когда идея, тенденция слишком «выступают» в образе, — это ослабляет искусство. Примечательно, что слабость образа Волохова, а также Штольца и Тушина он объяснял, между прочим, тем, что тенденция в этих образах часто выступает сама по себе.
Писатель указывал, что и образ Обломова немного «тронулся», когда Обломов сам заговорил о себе в романе.
Безусловно верна мысль Гончарова о том, что «ум в искусстве есть уменье создать образ».
Правда, иногда художественный процесс представлялся Гончарову как «необъяснимый процесс», бессознательный.
Конечно, все подлинно творческое в искусстве — неожиданно для самого художника, кажется ему неожиданным. Об этом, собственно, и хотел сказать, видимо, Гончаров, когда говорил: «Хорошо, что не ведаю, что творю». Тезис о «бессознательности» творчества — тезис, бесспорно, ошибочный, идеалистический — Гончаров сам же неоднократно опровергал. Беда Райского в «Обрыве», судя по тому, что говорил о нем романист, как раз и состояла в этом преклонении перед бессознательностью творчества, в эстетском отношении к жизни. Райский, чтобы творить, стремился «ослепнуть умом», не хотел «осмысливать и освещать основы жизни», только «ощущать жизнь, а не смотреть в нее», а уж если смотреть, то только для того, чтобы «срисовать сюжеты», факты, не дотрагиваясь до них разъедающим, как уксус, анализом. «Мое дело — формы, мое дело только видеть красоту», — говорит Райский.