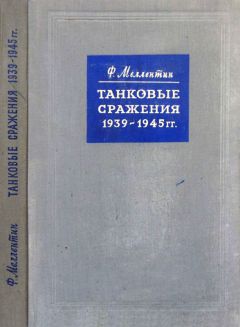Когда мы долгими ночами ходили туда-сюда в камере, шесть шагов туда и шесть шагов обратно, беспокойно, тогда мы знали, что будем беспокойны вечно. Тогда мы знали, что для нас не было освобождения, что за каждым барьером, который мы проламываем полные надежд, раскрывается новый простор, с новыми, более богатыми надеждами. И так как мы должны были с нашей дорогой вырасти или погибнуть на ней, ни одно испытание не могло найти нас меньше, чем долг, с которым мы шагали. Так как долг был нашим, он был единственным, что было нашим. Мы не могли позволить себе суживать его владение, поступаться им в легком признании, мы не могли признавать наказание, которое могло бы лишить нас хоть одной его части. Мы должны были подчинить себя его закону, а не законам людей, которые стремятся его искоренить.
Вечно мы будем беспокойны. Так как спасение для нас сделалось невозможным, и невозможно для нас найти себя в этом мире, который наводит ужас на себя самого. И подобно тому, как внутри старого порядка новый потоп уже стоял перед всеми дамбами, и угрожал, что измельчит окаменевшие формы жизни, то все, что двигало наше время, зарывалось неискоренимо в нас, проникало во все щели нашей кожи, и пропитывало ткань соединений опасными ручейками. Мы были больны Германией. Мы ощущали процесс изменения как физическую боль, которая не нуждалась в страстном желании глубокой полуночи. Мы всегда стояли в мерцающем свете разрядки, мы всегда стояли там, где совершался акт сгорания, мы участвовали в этом акте. И так, поставленные между двумя порядками, между старым, который мы уничтожали, и между новым, который мы помогали создавать, не находя ни в одном из них места для нашего существования, так мы становились беспокойными, бесприютными, проклятыми носителями страшных сил, сильными благодаря долгу и за него же преследуемыми. Где бы мы должны были занять последний рубеж, когда мы бы должны были успокоиться? Мы были проклятым родом, и мы ставили под этим свое «да».
И так как мы узнавали это, с безвыходной уверенностью измученных от размышлений, исхоженных ночей, мы с насмешкой воспринимали бессилие тех, которые хотели судить нас. Мы никогда не могли требовать справедливости, так как мы никогда не признавали справедливость как нравственное требование. Никакой суд мира не мог продиктовать нам наказание, который могло бы поразить нас в нашем самом внутреннем ядре. Что можно было причинить нам большего, чем мы причинили самим себе?
В день процесса мы приветствовали друг друга в коридорах с веселым смущением, занимали место на огороженной скамье подсудимых и с любопытством осматривали аппарат, который был стянут, чтобы вынести приговор, в качества которого мы не могли верить. Так как речь шла не о праве, речь шла о содержании, которое было атаковано. Нас била волна глухой ненависти, и мы чувствовали себя в ней комфортно. Так как у этой ненависти не было силы, чтобы быть открытой. Мы видели, как появляются судьи, черты лиц которых так застыли в серьезности и достоинстве, что они выглядели как маски. И мы чувствовали, что это была маска правосудия, которая бранила жестокую силу, ту силу, которую мы могли уважать даже за маскировкой, не распространяя это уважение на людей, которые отстаивали эту силу. Ибо они злоупотребляли маской права; потому что они боялись, что захотят исследовать цель, для которой произошла эта сила, поэтому, казалось нам, они повязывали себе маску. Мы были увереннее, чем они, так как мы знали, что право могло быть только там, где общность верит. Но где была общность, которая могла бы верить, которая понимала бы право в готовой к бою радости ответственности как глубокую, мистически связывающую, воодушевленную и воодушевляющую силу?
Но тогда мы позволили себя арестовывать хорошо смазанному маслом механизму. Хотя мы знали, что все, что бы там ни говорили мы или адвокаты, в результате мало что может изменить, чем если бы мы, вместо того, чтобы говорить и отвечать на вопросы, просто бросали горошины об стену, хотя мы это знали, мы восхищались. Здесь был аппарат, которым владели и которым должны были владеть. Как бы в герметично замкнутом пространстве работала эта машина, в ее силе и движении как законченное целое, как вещь в себе красивая и надежная. И шум маховиков заглушал любой шум самонадеянного мира, исключал как глубокое, так и преходящее, заставлял умокать человеческие слабости, как и человеческие желания перед захватывающей дух игрой с материей.
Единственная секунда, которой мы, с не отвечающими массами перед нами самими, боялись, то мгновение, когда человек Ратенау встал бы в зале судебного заседания, угрожающая, требующая молчания тень, эта секунда не наступила, министр был неопределенным лицом, смерть которого требовала искупления, ничего больше. Однажды казалось, как будто очень некорректно между вопросами тихий звук потребовал внимания, но судья, почти смущенно, стер прочь неловкую попытку, и машина заработала дальше.
Это все происходило так далеко от нас, что до нашего сознания не доходило, к какой точке, к какому предложению точная тайная наука привязывала решение о нашей внешней судьбе. Мы сидели и удивлялись, и тихо шевелилось в нас желание ознакомиться с правилами игры, чтобы быть в состоянии понимать эти несравненные процессы во всей ее элегантной энергии и быть в состоянии их формировать. У меня даже не возникала мысль, что каждое слово, только что произнесенное, принимало решение о многих годах моей свободы.
Но речь шла о том, нужно ли согласно закону понимать мою поездку в Гамбург, чтобы привезти шофера для использованной в покушении машины, как соучастие или нет. И верховный имперский прокурор привел одно решение имперского верховного суда, согласно которому нужно наказывать за соучастие, если жених девушки, которая решила сделать аборт, достал ей для этого подходящий инструмент, даже если девушка этот инструмент не использовала. И доктор Лютгебруне, выходец из нижнесаксонских крестьян, поднялся и с вежливым превосходством опытного юриста сослался на похожее решение имперского верховного суда, том такой-то, страница такая-то, согласно которому то, о чем только что говорил господин верховный имперский прокурор, верно, однако, что в том случае, если бы девушка определенно отвергла предложенный инструмент, то состава преступления соучастия не было бы. И господин верховный имперский прокурор выпил стакан воды и дальше перелистывал дела. Но в перерывах, когда гремящий смех политических временных непрофессиональных членов суда из соседнего помещения бил в наши уши, ночами между днями процесса, когда мы, беспокойные и с причиняющими боль глазами пристально смотрели в узкий, зарешеченный четырехугольник, через который синий воздух ночи проникал в камеру, на нас нападал душащий страх того неизвестного, которое подкарауливало во всех углах. Когда бы жизнь ни противостояла нам, мы бросались вперед на ее дрожащие проявления, и когда она угрожала нам, то мы могли защищаться и также достаточно делали это. Но то, что наступало теперь, было ли вообще еще жизнью? Не было ли это скорее нечто, что полностью стояло вне ее форм, не было смертью и, все же, это была смерть, не было жизнью и, все же, это была жизнь? Мы ничего не ожидали с таким сильным нетерпением, как свободу. И теперь свобода была отобрана у нас, и никто не знал, надолго ли. Вдруг приобрели важность совсем другие требования, и исполнять их нужно было совсем другими средствами. Вдруг мы были лишены возможности выбора, и с нею тысяч других возможностей, которые находились в нашем распоряжении. Вдруг мы оказались беззащитны, лишенные чести, нагие как человек; номер и лишенные какой-либо другой воли, кроме воли надзирателя, разве только, что сила, до сих пор вливавшаяся к нам снаружи, теперь с удвоенной силой прорвалась бы изнутри нас. Вероятно, мы никогда не были в такой сильной степени индивидуумами как теперь, так как мы должны были стать людьми без индивидуальности. Мы должны были теперь выстоять перед смертельной изоляцией — и ради чего? Ради нас самих? Мы не привыкли делать что-то ради только нас самих. Теперь мы были лишены даже самого действия. Теперь мы должны были терпеть. Но терпеть без смысла.