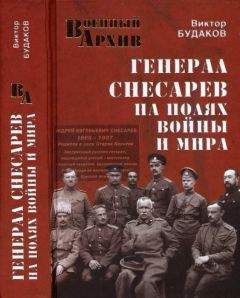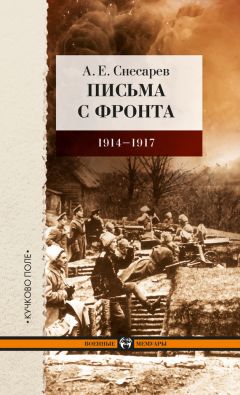Насколько всё это отвечает истине, сказать трудно: много личного элемента, немало хвастовства, но большая наблюдательность, политическая подготовленность и природный разум…»
Десять дней спустя Снесарев и Зайончковский снова встречаются — теперь уже комкор приезжает в дивизию, излагает суть обстановки. Катастрофа в соседней дивизии: погибло почти десять тысяч человек, а на участке корпуса, в створе между дивизиями, требуется наступление. Кто его возглавит?
Зайончковский рассказывает о разговоре с Калединым. Сначала комкор предложил на разбитую дивизию направить Снесарева, чтобы сколь можно быстрее поправить положение, а сюда — уже намеченного Эрдели. На что командующий армией возразил: «Не годится. Тут будет незнающий Эрдели, там незнающий Снесарев». Тогда Зайончковский предложил усилить 64-ю дивизию несколькими полками и артиллерийскими дивизионами и Снесареву поручить главный удар на участке корпуса. Каледин, спросив, остались ли резервы, согласился.
Снесарев обрадован и воодушевлён, обедая с Зайончковским, теперь полностью принимающими, радушными глазами смотрит на своего начальника и доброго вестника, находя его очень живым и остроумным.
«А теперь дело стоит так, — не без гордости пишет он жене в письмах от 21 ноября и следующего дня, — так как у меня был большой успех, а на главном ударе нашего корпуса — неуспех, дают мне силы, и я буду работать…
На остальных участках армии должны были мне помогать демонстрацией, а я должен был наносить удар… Мне сказали, что 25 ноября, вероятно, будет атака, почему ночью я подтянул все части своего “отряда” (так как неудобно было его назвать корпусом и дать в подчинение генерал-майору, который по канцелярским расчётам не дорос ещё до дивизии, то создалось такое лукавое, но, если хочешь, и лестное название “Отряд генерала Снесарева…”) и к рассвету занял предбоевое расположение. И вот утром я получаю известие, что всё отменяется и что три полка с некоторой артиллерией я должен немедленно отдать. Мои полковые командиры, офицеры и ребята были в таком отчаянии: так всё было продумано и так было много шансов на блестящий успех; когда я по телефону отменял свой приказ, то мне в ответ слышались слёзы. Но что делать: подлые романешти отдали Бухарест, и нужно было им на помощь посылать то, что было под рукою».
Вот и торжество случая — благоприятного или неблагоприятного — на войне. В данном случае — неблагоприятного. Всё было готово к тому, чтобы состояться большой победе. Но не состоялась. Румыны сдали свою столицу — помогай румынам, как прежде бывало не раз у России, помогавшей всем своим чаще мнимым союзникам.
Оставалось одно: успокоить своё воинство и вернуть ему прежний наступательный дух — передать дивизию другим на той высоте, какой она, ещё недавно «слабая числом и духом», достигла его трудами, его волей, его душой. Ещё недавно растрёпанная — теперь лучшая дивизия в армии. Не отступающая, а наступающая. Не теряющая своих пленными, но берущая в плен (за два месяца пленены сорок офицеров и две тысячи нижних чинов, да ещё трофеи: тридцать пулемётов, бомбомёты, прожектора — в их лучах хорошо ночные карпатские холмы просматриваются…).
Снесарев называет свою дивизию своим детищем, своей Ейкой, по ласкательному имени дочери Женечки. И приходится всё это оставлять и на других холмах, с другими полками осуществлять военное миропонимание.
А его военное миропонимание — уже целая энциклопедия, которую хранят память и мозговые клетки. И на всём останавливается его проницательный взгляд. Скажем, он давно уже видит, что между пехотой и артиллерией — пропасть, что, поскольку артиллерия, прикрываясь своей особой миссией, не хочет подчиняться, но желает быть в барском положении и воевать по своему настроению и пониманию, надо восстановить единоначалие и единоответственность.
А насколько кровнотрепетна его мысль о сбережении унтер-офицерского корпуса, которому он ещё со времён ранней службы придавал высокое значение. Теперь же, после действительно невосполнимых потерь, он пишет в дневнике так, как если бы это была докладная записка начальнику Генерального штаба: «В Перекопском полку при выступлении было около 90 унтер-офицеров на роту (подпоручик на взвод, фельдфебель — отделение и унтер-офицер через 2–3… в рядах); все они легли зря, и потом на 250 — два унтер-офицера, а позднее и ни одного… То же и с офицерами: 19-я дивизия под Рогатиным, 24–30 августа Львовские бои и затем под Перемышлем… вся легла, на взводах погибли опытные штабс-капитаны, будущие не только батальонные командиры, а и полковые… остались прапорщики… Таким образом, отсутствие организационной предусмотрительности лишило нас в первые же два месяца всякого запаса офицеров и унтер-офицеров… глупее глупого. А между тем этот запас должен был бы быть распределён по разрядам, так же как и общий имперский состав пополнений, дабы на каждую сотню рядовых пополнения было бы, скажем, 1–2 офицера и 5–6 унтер-офицеров… и так до окончания войны…»
Отсутствие организационной предусмотрительности — почти роковое упущение, но если бы только это отсутствие…
В начале ноября 1916 года умер польский писатель Сенкевич, автор знаменитого романа «Quo vadis». Камо грядеши? Куда идёшь? А в начале эры Христовой христианский мир, ныне разделённый, был един, он ещё помнил Христа, он был беззаветен, и апостолы, и пастыри его шли на мученическую смерть. Для Снесарева роман был по-настоящему значимым; не без интереса прочитал он и «Крестоносцев» — из более поздних, уже не римских, а славянских времён.
Смерть Сенкевича даже на фоне великих потерь мировой войны ощущалась как духовная утрата европейского континента.
Через несколько дней скончался престарелый австрийский император Франц-Иосиф, не доживший самую временную малость до гибели своей монархии, но уже видевший её конец.
А в Брязе, как и на всём пространстве русских фронтов, отмечают праздник Святого Георгия. «Настроение славное, чувствуешь, что принадлежишь к семье храбрых, к специальной аристократии духа (другие — ума, денег, таланта, происхождения и т.п., т.е. ума, таланта или денег — в прошлом. Идея историческая: деды поработали и сделали почти всё, что положено их роду, дети отдыхают, но пользуются благами); нас потом затрут другие аристократии, когда минует военная гроза, но ведь мы работали не для толпы и печати; мы делали своё дело по внутреннему голосу, и с минованием войны мы скромно станем в сторону, создав для других жизнь, которой некогда мы умели рисковать…»