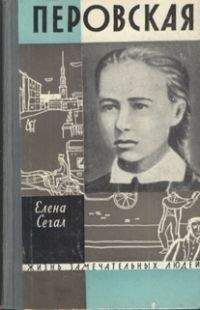Приговора ждали с нетерпением не только в суде. Вечером 28 марта, уже после того, как прокурор потребовал для всех подсудимых смертной казни, философ Соловьев читал в зале кредитного общества лекцию на тему «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса».
Прежде чем дать разрешение на эту лекцию, градоначальник Баранов взял с него слово, что он не упомянет ни о самом преступлении, ни о судьбах процесса.
И правда, сначала речь в лекции идет о чем-то как будто совсем далеком: о тайнах христианства, тайнах неведомого «того берега» бытия. Но публика ждет. Она знает: Соловьев не может не, коснуться того, что волнует всех. И ждет не напрасно.
«Мало-помалу, — рассказывает современник и свидетель этого события, — перспектива суживается, оратор заметно близится к нашему берегу… «Теперь там, — говорит он, — за белыми стенами, идет совет о том, как убить безоружных. Ведь безоружны же подсудимые узники. Но если это действительно, совершится, если русский царь, вождь христианского народа, заповеди поправ, предаст их казни, если он вступит в кровавый круг, то русский народ, народ христианский, не может идти за ним. Русский народ от него отвернется и пойдет по своему отдельному пути…»
Публика устраивает оратору овацию. Вскоре к градоначальнику поступает сразу несколько доносов.
Соловьев отделывается сравнительно небольшим наказанием. Такие люди, как он, не страшны царскому правительству.
Лев Толстой еще раньше, задолго до суда, написал Александру III письмо. Он не мог найти себе покоя с той самой минуты, как узнал об убийстве Александра II. Его волновала участь цареубийц.
«Я буду, — предупредил он императора, — писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишутся письма государям с цветами подобострастного и фальшивого красноречия, которые только затемняют и чувства и мысли. Я буду писать просто, как человек человеку».
Толстой обращался прежде всего к нравственному чувству императора (чайковцы первого времени по своим взглядам были ему много ближе, чем народовольцы), обращался к его здравому смыслу, к его разуму. Он доказывал ему логическим путем, заранее опровергая все могущие возникнуть возражения, отметая все ссылки на высшие соображения и государственную необходимость. Истина всегда истина — против зла есть одно только средство, и это средство — прощение.
«Государь! — писал Толстой. — Если бы вы сделали это, позвали этих людей, дали бы им денег и услали их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест со словами вверху: «А я вам говорю, люби врагов своих», — не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом вашим… Убивая их, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеалы есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который был бы выше их идеала, включал бы в себе их идеал».
Это письмо с просьбой передать его императору Толстой, по-видимому, не представляя себе, с кем имеет дело, доставил Победоносцеву.
Узнав 30 марта, что письмо, которое он отказался передать, пошло по назначению другим путем, Победоносцев поторопился парализовать его действие.
«Сегодня пущена в ход мысль, — написал он Александру III, — которая приводит меня в ужас… Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни… Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему величеству извращенные мысли убедить Вас к помилованию преступников. Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется…»
На этом верноподданническом послании Победоносцева Александр III написал: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь».
После того как 30 марта в 4 часа пополудни подсудимым сообщили приговор в окончательной форме, Геся Гельфман попросила дать ей свидание с мужем — Колодкевичем, а когда ей в ее просьбе отказали, подала 30 марта в 10 часов вечера через своего защитника Герке следующее заявление прокурору:
«Приговоренной к смертной казни Геси Мееровны Гельфман Заявление.
Ввиду приговора Особого присутствия сената обо мне состоявшегося считаю нравственным долгом заявить, что я беременна на четвертом месяце».
На другой день, 31 марта, Гельфман была освидетельствована врачами в присутствии лиц прокурорского надзора и петербургского градоначальника.
Того же 31 марта Кибальчич, которому сказали, что его проект передадут на рассмотрение ученых, обратился к Лорис-Меликову с просьбой дозволить ему не позже завтрашнего утра свидание с кем-нибудь из членов Комитета или хотя бы получить письменный ответ экспертизы и позволить ему предсмертное свидание с товарищами по процессу или по крайней мере с Желябовым и Перовской.
Предсмертные просьбы Кибальчича были оставлены без внимания.
На прошении Рысакова о помиловании царь написал: «Поступить сообразно заключению Особого присутствия».
Значит — смерть. Но Рысаков не хочет умирать. Совесть, честь, жалость к людям — Рысаков перестал понимать, что это значит. Только одно слово, как раскаленное железо, жжет его мозг, только одно слово он в состоянии понимать, и это слово — смерть. Продать все, продать всех, лишь бы не умереть. Пусть другие качаются на виселице, пусть других душит веревка, он, Рысаков, не выносит даже мысли об этом.
Рысакова не оставляют в покое. Его допрашивают и во время и после суда и даже накануне казни.
«Из нас, шести преступников, — пишет он в последнем протоколе от 2 апреля, — только я согласен словом и делом бороться против террора — тюрьма сильно отучает от наивности… До сегодняшнего дня я выдавал товарищей, имея в виду истинное благо родины, а сегодня я — товар, а вы — купцы…»
И Рысаков называет новые имена: Григория Исаева, техника «Народной воли», Веру Фигнер.
«Я предлагаю так: дать мне год или полтора свободы, чтобы действовать не оговором, а выдачей из рук в руки террористов… Для вас же полезнее не держать меня в тюрьме… Заранее уславливаюсь, что содержание лучше получать каждый день…»
После того как закончился процесс первомартовцев, Дом предварительного заключения словно замер. Большинство обитателей этого дома знало о приговоре и надеялось, что его отменят хотя бы для женщин. Близкие друзья Перовской пытались хоть что-нибудь узнать о ней. Кто-то из тюремщиков сказал им, что она держится бодро, но очень бледна и слаба физически. Одна, по выражению Софьи Ивановой, «добрая фея» принесла ей на словах прощальный привет от Сони. Иванова, которая на воле столько раз передавала Соне письма от Варвары Степановны, жаждала оказать ей сейчас хоть какую-нибудь услугу, но это было невозможно. К смертникам впускали только самых проверенных надзирателей. И днем и ночью у них в камерах дежурили по двое — жандармский офицер и жандарм-солдат, которым полагалось следить за тем, чтобы осужденные не лишили себя жизни и «дожили до веревки».