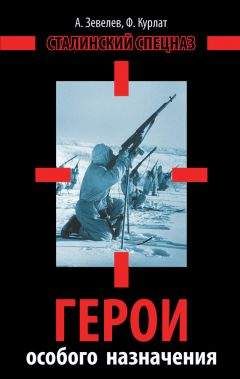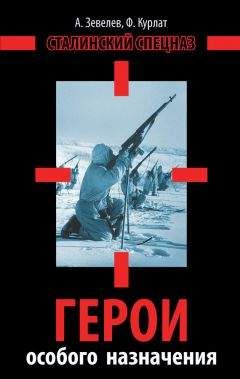За проволокой погрузочной площадки стоял разомкнутый сиротский рядок самых упорных провожающих, тех, кто, несмотря на строгий запрет, все-таки разузнали, куда повезли ребят из районных сборных пунктов. Они приехали, чтобы достоять до последнего стука, до хвостового вагона и тихо уйти восвояси. Новобранцам казалось, что только здесь, в вагонах, колготня, смех и предвкушение настоящей жизни, а там, за проволокой, загон для остающихся, для тех, кому уготовано серое ожидание.
Уже перестали прибывать груженые «ЗИСы» и полуторки, усталые продавцы запирали свои торговые ларьки, а провожающие все еще стояли. Ретивость часовых сама собой поослабла. Новобранцы большей частью стыдливо отстаивали положенное время возле своих сородичей, отделенных от них колючим ограждением.
Давно разнесли по вагонам бачки для воды, ведра, противопожарные ящики с песком и лопаты, проверили списки, проинструктировали, все устали ждать, кое-кто проголодался и принялся уничтожать свои съестные припасы. Оказалось, что ждут еще какую-то группу не то из Калужской, не то из Курской области, не то из какой-то другой. Наконец, прибыли и они, но свободных вагонов не нашлось и последнюю команду по двое, по трое разделили на весь эшелон.
Иван Татьянников попал в девятнадцатый вагон, состоящий сплошь из москвичей. Там уже знали друг друга, расположились на двухъярусных нарах, и на Ивана мало кто обратил внимание. Когда заносили в список, оказалось, что новичок из Курской области.
В вагоне Ивану не сиделось, он высовывался в раскрытый проем, поглядывая то вправо, то влево, и внимательно просматривал реденькую цепочку провожающих. Казалось, что эшелон прирос к этой «Пресне» и никуда отсюда уже не уедет, И вдруг Иван забеспокоился, стал искать старшего по вагону, а не найдя его, обратился к пареньку-москвичу, что стоял рядом:
— Разрешите мне туда, — он весь тянулся и нетерпеливо указывал направление. — Товарищ командир!..
— Какой я командир? — усмехнулся москвич. — Лети!
Иван ухнул вниз и, потирая ушибленное колено, побежал к ограждению.
По ту сторону шла молодая женщина и пристально всматривалась в лица новобранцев. Она сразу заметила бегущего Ивана и остановилась. Сняла торбу с плеч, опустила ее на землю. Платки она сняла и держала в руках, обмахиваясь. Было в ней что-то такое, что заставляло смотреть да смотреть — то ли чуть взопревшее лицо, простое и заметное даже издали, то ли стать прямая-прямехонькая, кофта белая — выбилась из-под пояса, пиджак распахнулся. Татьянников стоял рядом с ней, роста они были одинакового, и оттого она казалась высокой. Говорили они или нет, со стороны не было видно. А они говорили. Иван спросил:
— Марья, ты как определила, что нас на эту Пресню повезут?
— Шофера приехали бумажки подписывать, я и подошла. «Дорогой товарищ, говорю, ты моего куда отвез-то?» «Военная тайна», говорит. — Она чуть улыбнулась. — «А ты, говорю, всю тайну не распыляй, а про моего Ваньку скажи». Он и сказал. А там уж транваем одним, транваем другим, да вот тут на путях… Все нельзя да запрет. Люди помогли.
— Может, лучше тебе к дому податься? Маманя серчать будет. Да и председатель!.. Они ж там без тебя как без рук.
— Сестренки подменят — не выдадут.
— Ты не так чтоб уж очень, — неопределенно возразил Иван.
— Все одно серчать будут, а так вовсе загрызут, — отвечала молодая. — Да и твоя маманя скажут: «И-и, всего ничего за мужем прожила, а толком не проводила!» Может, у вас на буфах и так, а в наших Федорках испокон так не было, не будет, — трудно было разобрать, шутит она или всерьез говорит.
— Мели, Матрена! — отмахнулся Иван.
— Ты бы узнал, куда повезут-то?
— Разве узнаешь.
— Ну ладно, — согласилась. — Может, поешь чего?
— Так постою.
— А может, поешь?
— Ты ж меня сегодня уже кормила, а совсем не вечер.
Так они и стояли, разделенные новой, недавно натянутой проволокой.
— Круто заверчено! — Иван потрогал железную колючку. — Их специальным аппаратом загинают, — авторитетно сообщил он.
Мария понимающе кивнула:
— Ясное дело, не руками.
Тот паренек-москвич, у которого Иван просил разрешения отлучиться, чуть толкнул стоящего рядом хмурого белесого новобранца.
— Стоит со своей — ног не чует, — кивнул на Татьянникова.
— А-а-а, дальние проводы — лишняя волынка, — отозвался тот. — Это все мерихлюндии. Сейчас бы узнать, на какой фронт нас.
Вдоль вагонов пронеслась нестройная команда. Молодая за колючей проволокой расправила и накинула на голову светлый платок, темный так и остался в руке. Уже все новобранцы разбежались по вагонам, а Татьянников все еще стоял возле своей. Они разом протянули друг другу руки. Очень интересно было смотреть на это прощание, словно они, милые, расставались до завтра, или, в крайнем случае, до послезавтра, или, уж на худой конец, до следующего понедельника.
Состав долго петлял по стрелкам окружной железной дороги Московского узла, и неизвестно было, в какую сторону его понесет, если он сорвется с этого круга.
Ребята стояли рядком у распахнутого створа вагона, облокотились на струганую слегу и смотрели в пасмурное небо предместий.
Часа через два обнаружилось, что все это молодое воинство едет на Восток! Это была дорога от фронта — дорога в тыл. Само слово «тыл» казалось постыдным. Оно саднило, даже оскорбляло — прощались-то с ними, провожали-то их не куда-нибудь, а на фронт!
Шло воевать удивительное поколение, и никто тогда этого не заметил. Шло на фронт поколение, казалось бы, жестоко оскорбленных деяниями еще вовсе не отгоревших лет. Как мало из громко обещанного, в мечтах взлелеянного состоялось (или на слишком многое надеялись?). Как много фантастически жуткого, пришедшего словно из наваждения, подобралось, подползло, навалилось. Сыновья и младшие братья тех, кого не зацепило чудом или просвистело, пролетело мимо, тех, кто уже давно были в далеких крестьянских ссылках, в так называемых «исправительно-трудовых» лагерях, за колючей проволокой, на каналах, на лесоповалах, в рудниках да шахтах, на Том далеком Севере, да еще на том свете…
Так кто же тогда так рвался на фронт?
Шло на фронт удивительное поколение не готовых к войне. Шло на фронт поколение с раздвоенным сознанием, умеющих с упоением кричать оглушительное «Ура-а-а!», когда внутри вся душа в смятении, бурлит и вопит: «Да что же это, в конце концов, такое?»
Шло на фронт поколение, не умеющее додумывать, не умеющее доводить свою главную мысль до конца, до решающей точки. Они в своих суждениях, осуждениях и несогласиях всегда оставляли зазор для верности. Трудно было бы определить — верности чему?.. Но они надеялись, старались изо всех сил верить, что в оставленный зазор будет позднее вставлена хоругвь непорочности и высшей карающей справедливости… Может быть, больше всего они рвались на фронт именно из-за этой раздвоенности и желания избавиться от нее… Из-за невозможности свести концы с концами… Но не только. Они оставляли зазор еще и для верности своей матери, отцу, своей земле, самому себе, огромной, не умещающейся в сознании стране. Особенно в те дни и часы, когда она больше всего нуждалась в их защите. А там-де, после войны, разберемся!.. Все как-нибудь перекувырнется и образуется. Только бы остановить этого пугающего и непонятно сильного врага… А там видно будет… После войны все будет! Все по справедливости. И по чести. Верили — будет!