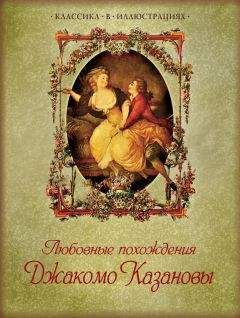Валя работала личным переводчиком директора крупной инженерной фирмы, часто ездила в СССР, так что совершенно независимо от меня её язык становился лучше и богаче.
Появилось у нее и несколько русских подруг из третьей эмиграции.
Одна из Валиных подруг, Оля Абрего, оказавшаяся в Париже, благодаря испанскому мужу, стала французской актрисой, что тоже не часто. (Её потом в театре прозвали «самая большая женщина Франции») В 1991 году Оля познакомила Валю с новым своим «пети ами» (он и верно рядом с ней был весьма «пети»), русским скульптором Гуровым. Он «эмигрировалал» из СССР сразу после «перестройки» весьма забавным способом: он приехал в громадном контейнере вместе с собственными огромными скульптурами, которые должны были прибыть на выставку вовсе даже без автора.
Поболтавшись немного в Париже без документов, Гуров решил попроситься в Австралию. Идея эта всем гуровским знакомым показалась бредовой, однако же, физик Боря Великсон, наш близкий друг и сосед по Медону, заполнил для Гурова нужные анкеты на нормальном английском. И вот чудеса на свете бывают — наш скульптор получил из Канберры положительный ответ. На радостях и в благодарность за услугу Гуров предложил Боре выбрать в подарок любую скульптуру. Однако же выбирать было практически не из чего — большая часть скульптур не могли поместиться в комнате с современной высотой потолков. Так у Бори появилась «Железная Маша». Узорная с прихотливыми изгибами; в ней, по-моему, слегка проглядывает матвеевская фактура в обработке поверхности, хотя статуя и тонирована под позеленевшую бронзу.
Гуров в Австралию так и не поехал. Валя показала его скульптуры своему другу Лорану, директору лицея в Монтаржи, а Лоран, которому скульптуры очень понравились, заинтересовал ими мэра города. В результате, мэр пригласил Гурова на должность «главного скульптора города Монтаржи».
К сожалению, у этой рождественской истории очень печальный конец. Гуров на радостях поехал в Россию, и там, пьяный, угодил в смертельную автокатастрофу около Пскова…
У Вали я познакомился и с её французскими друзьями, в том числе и с Лораном. Он был одним из руководителей студенческих волнений 68 года, по специальности — учитель биологии, по происхождению — маркиз, по интересам — великий гастроном. Года за четыре до нашего знакомства он своими руками построил себе дом, а когда-то ещё раньше прожил некоторое время в монастыре траппистов («молчальников»).
И сама Валя, и её друзья, с которыми я у неё познакомился — всё это люди 68 года.
Но, пожалуй, эти мемуары повело такими тропками, что французы в них никак не могут поместиться. Не знаю уж почему, но так. Так что я — только про Валю.
Она — один из лучших фотографов, каких я когда-либо знал. Каждый год, а теперь, выйдя на пенсию, и дважды в год, она ездит по разным экзотическим странам и привозит каждый раз сотни слайдов. Почти целая стена занята у неё ящичками с этими слайдами, систематизированными и размещёнными так, что любой можно в минуту отыскать.
Но, кажется, лучшие Валины фотографии посвящены острову «Сан Луи» в Париже. Это ее квартал, где она живет в старинном доме, в квартире, в которой на трёхсотлетних дубовых балках держатся высоченные потолки. Когда-то во время войны Валя с мамой вселились в эту квартиру, потому что их дом разбомбили. Тогда старинные дома на «Сан Луи» были трущобами, а сейчас квартиры на этом острове из самых дорогих в Париже. Но живет там, к счастью, множество старожилов, и до сих пор, несмотря на туристов, там сохранилась та особая атмосфера, которая делала разные парижские кварталы отдельными деревнями со своей жизнью. Вот эту жизнь и удается Вале ухватить на своих фотографиях. А еще есть у нее серия «сад». Бывший мамин сад в деревне зимой, летом, весной, осенью… А сад чудесный — у Валиной мамы был талант — любая посаженная в землю веточка приживалась.
----------
В 1976 году из редколлегии «Континента» вышли Синявские. Это никого не удивило — их несовместимость с Максимовым была видна за версту.
Я тоже постепенно перестал бывать у Синявских. Синявских я воспринимал, как слишком «левых», а политическую позицию считал в те годы важнее человеческой.
Я считал себя твёрдым центром, и мне казалось, что водиться с Гюнтером Грассом или с Генрихом Бёллем, при их сочувствии к террористам, да и к СССР — это немыслимая слепота. Каким образом я ухитрялся тогда не видеть, сколько тот же самый Белль на самом деле сделал для людей, борющихся с советской властью, не знаю. То есть знаю, конечно — ненависть застила глаза.
В момент «обозления на политической почве» я опубликовал в «Стрельце» какой-то обзор очередного номера «Вестника РСХД», в котором походя лягнул и столь любимые мной «Прогулки с Пушкиным».
Стыдно мне за это стало очень скоро, и я долго думал, как бы вообще научиться не смешивать политику с эмоциональными порывами. Но если этого сам Юлий Цезарь не мог придумать, куда уж мне…
А ведь с другой, с «правой стороны», — всё было куда хуже. Всякие дураки, чаще всего из «второй», то есть военной эмиграции, водившиеся с кем попало, лишь бы «справа», всей толпой делали реверансы перед Солженицыным. Ну а сам Солженицын, который, едва приехав, начал учить жить западных людей?…
Итак — с одной стороны интеллигентность, раздражавшая некой непоследовательностью и тем, что я называл «левацкими всплесками» (скорей идущими от Марьи, чем от Андрея). Марья вообще-то любит повторять, что она, мол, очень любопытна, и в сферу ее интересов входит «гельминтология», а посему она общается со всякими, вплоть до ультрасоветских, исследует их…
Ну, а с другой стороны «справа» была антикультурная охранительная тупость и жлобство. И полное отсутствие чувства юмора. Словно у всех у них оно было ампутировано!
В моем тогдашнем представлении о жизни оставалось только жить по анархистской частушке:
Эх яблочко
цвета ясного,
Бей слева белого,
а справа красного!
1976 год. Осень. Звонок Эткинда. Умерла Татьяна Григорьевна Гнедич. В проклятый день, в годовщину октябрьского… восстания, путча, переворота? — да не всё ли равно, как это называть!
Потом, когда я опубликовал в «Русской мысли» большой очерк «Памяти Т. Г. Гнедич», Ефим Григорьевич написал мне: «Вы сделали важное и необходимое дело, верней начали его… прочтут и оценят подвиг и жизнь человека, которого мы любим и который достоин преданной памяти»