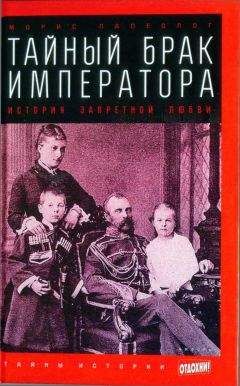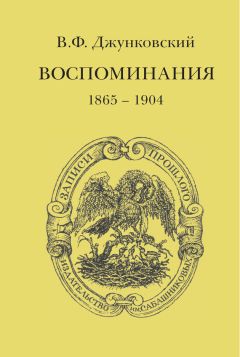5. Наконец, огромное протяжение страны делает из каждой губернии центр сепаратизма и из каждого города очаг анархии; слабый авторитет, какой еще остается у Временного Правительства, совершенно этим парализуется.
- Но какое же против этого средство? - спрашивает меня Боргезе.
- Надо, чтобы социалисты союзных стран доказала своим товарищам из Совета, что политические и социальные завоевания русской Революции погибнут, если предварительно не будет спасена Россия.
Понедельник, 2 апреля.
Из телеграммы из Парижа я узнаю, что министр снабжения Альбер Тома будет послан с чрезвычайной миссией в Петроград. Его патриотизм, его талант и сверх того, его социалистические убеждения делают его, кажется мне, более квалифицированным, чем кто бы то ни было, чтобы заставить Временное Правительство и Совет выслушать кое-какие неприятные истины. С другой стороны, он близко увидит русскую революцию и возьмет под сурдинку странный концерт лести и похвал, который она вызвала во Франции.
Сегодня утром я был на интимном обеде у княгини Ж.
Невеселы. Разговор не клеится. Каждый поглощен своими тайными мыслями, которые мрачны. Один только Б. говорит без умолку и, как всегда, выражает свой пессимизм сарказмами.
- Какую радость, - восклицает он, - какую гордость испытываю я, гуляя теперь по городу! Я беспрерывно повторяю себе: отныне все эти _д_в_о_р_н_и_к_и, все эти _и_з_в_о_з_ч_и_к_и, все эти _р_а_б_о_ч_и_е - мои братья... Сегодня утром я встретил банду пьяных солдат; мне хотелось прижать их к своему сердцу.
Повернувшись к князю Ж., он продолжает;
- Михаил Константинович, поторопитесь отказаться от вашего богатства. Погрузитесь вполне лояльно в нищету. Отдавайте скорей ваши земли народу, пока он их не отнял у вас. Полагайте ваше счастье лишь в том, чтобы быть бедным и свободным.
Эта горькая ирония мало нравится аудитории.
Говоря более серьезно, Б. делает со мной обзор общего положения России, главных обозначившихся течений, страшных перспектив, которые открываются со всех сторон. Мы перебираем все вопросы политические, социальные, экономические, религиозные, этнические, которые уже в настоящий момент встают перед русским народом, не считая страшного вопроса войны, который ставит на карту самую жизнь России.
- Я предвижу, - говорю я, - длинный период анархии. После нее - диктатура.
- Да, - отвечает Б. - открылась новая эра в истории России, эра испано-американская... О, Парфирио Диац, когда ты придешь?
Я, между прочим, рассказываю ему, что с воскресенья 25 марта в соборе Богоматери в Париже не поют больше Domine, salvum fac Imperatorem nostrum Nicolaum. После Domine, отныне: salvam fac Rempublicam. Ждут новой формулы для молитвы за Правительство, вышедшее из Революции.
- Формулу нетрудно найти, - возражает Б.: - Domine, salvam fac crapulam nostram ruthenam!
Вторник, 3 апреля
Милюков очень смущен тем, что происходит в Кронштадте, большой морской крепости, защищающей подступы к Петрограду со стороны Финского залива.
Город (около 55000 жителей) не признает ни Временного Правительства, ни Совета. Войска гарнизона, насчитывающие не менее 20.000 человек, находятся в состоянии открытого возмущения. Перебив половину своих офицеров, они удерживают двести человек их в качестве заложников, которых они принуждают к самым унизительным работам, как: подметание улиц, черная работа в порту.
В Гельсингфорсе та же анархия.
В Шлиссельбурге город управляется повстанческой Коммуной, первым актом которой было договориться с союзом немецких военнопленных. По настояниям этого союза, человек шестьдесят пленных эльзас-лотарингцев, для которых я добился привилегированного положения, были подвергнуты суровому заключению.
В пять часов я делаю визит великому князю Николаю Михайловичу в его дворце, наполненном памятниками наполеоновской эпохи.
После Революции впервые я имею случай беседовать с ним.
Он корчит из себя оптимиста; я на это отвечаю лишь молчанием. Он, впрочем, настаивает не больше, чем полагается, и, чтобы я не считал его слишком ослепленным событиями, он изрекает следующий осторожный вывод:
- Пока такие серьезные люда и патриоты, как князь Львов, Милюков и Гучков останутся во главе Правительства, я буду преисполнен надежды. Если они не устоят, это будет скачок в неизвестность.
- В первой главе бытия эта неизвестность обозначена точным названием.
- Каким названием?
- Toгу-богу, что значит хаос.
Среда, 4 апреля.
Вчера министр юстиции Керенский отправился в Царское Село лично проконтролировать охрану бывших царя и царицы. Он нашел все в порядке.
Граф Бенкендорф, обер-гофмаршал, князь Долгоруков, гофмаршал, г-жа Нарышкина, обер-гофмейстерина, г-жи Буксгевден и Гендрикова, фрейлины, наконец, швейцарец, наставник цесаревича Жильяр делят заключение со своими монархами. Г-жа Вырубова, которая тоже жила в Александровском дворце, была схвачена, увезена в Петроград и заключена в Петропавловскую крепость в знаменитый Трубецкой бастион. Керенский беседовал с императором. Именно он спросил его, правда ли, как утверждала немецкие газеты, что Вильгельм II несколько раз советовал ему повести более либеральную политику.
- Как раз наоборот! - воскликнул император.
Беседа продолжалась в самом любезном тоне. Керенский, в конце концов, даже был очарован приветливостью, естественно, излучающейся из Николая II, и он несколько раз спохватывался, что называл его:
- Государь...
Императрица, напротив, замкнулась в своей холодности.
Отъезд г-жи Вырубовой не подействовал на нее, по крайней мере, так, как можно было ожидать. После того, как она была так страстно, так ревниво привязана к ней, она вдруг взвалила на нее ответственность за все несчастия, постигшие императорскую фамилию в России.
Ненавистная Энона довела до остального!
Четверг, 5 апреля.
Я отправляю Рибо телеграмму:
"Некоторые петроградские газеты перепечатали статью из "Радикала", доказывающую необходимость переменить представителя Республики в России. Не мне брать на себя инициативу выразить пожелание по существу вопроса. С другой стороны ваше превосходительство знает меня достаточно, чтобы быть уверенным, что в таких случаях мне чуждо всякое соображение личного характера. Но статья "Радикала" налагает на меня долг сказать вам, что после того, как я имел высокую честь быть в течение более трех лет представителем Франции в Петрограде, в сознании, что я не щадил никаких усилий, я не испытал бы никакого огорчения, если бы меня освободили от моей тяжелой задачи и что если бы правительство республики сочло полезным назначить мне преемника, я всеми силами содействовал бы смягчению перехода".