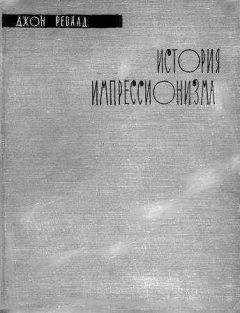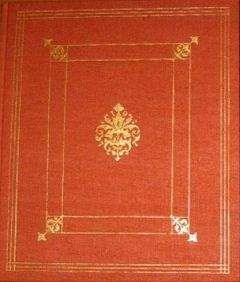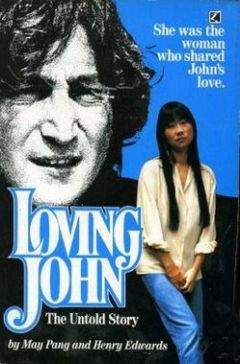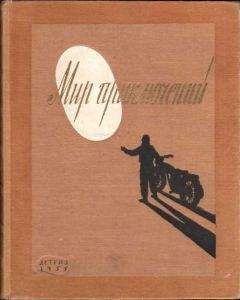Выставка явно распалась на две противоположные группы, и та, что включала Писсарро, Берту Моризо, Гийомена и Гогена, по-видимому, была меньшей.
Если импрессионизм не доминировал уже на выставке группы, то в Салоне ему тоже не повезло. Наиболее значительный из двух пейзажей, предложенных Моне, — „Ледоход на Сене" — был отвергнут. Две картины Ренуара были приняты, но только одна из них, девушка, уснувшая на стуле с кошкой на руках, была характерна для его импрессионистского стиля. Мане выставил довольно условный портрет своего друга Антонена Пруста, в то время члена французской палаты депутатов, и двойной портрет „У папаши Латюиль," написанный на пленере. Сислей не был представлен.
Жюри собиралось наградить Мане второй медалью, но в конце концов награждение не состоялось к великому разочарованию художника, здоровье которого все слабело.
Работы Моне и Ренуара были очень плохо повешены, и им пришла в голову мысль заявить протест министру изящных искусств с требованием отнестись к ним лучше в следующий раз. Они послали копию своего письма Сезанну с просьбой переправить его Золя. Они надеялись, что Золя, чье имя сейчас имело вес, опубликует его в одной из газет, где он сотрудничал, добавив несколько слов от себя, чтобы показать „значение импрессионистов и подлинный интерес, который они вызывали".[529]
Золя действительно опубликовал три статьи под заголовком „Натурализм в Салоне", но статьи эти не совсем оправдали ожидания художников.
С того момента, как слава начала венчать упорный труд Золя, он становился все более и более убежденным во всеобъемлющей миссии „натурализма". Он не забыл, что когда-то он и эти художники, неизвестные, но убежденные, начинали вместе, и теперь он измерял их достижения успехом у публики.
Импрессионисты, как ему казалось, потерпели неудачу не потому, что публика была слепа, — ведь та же самая публика восторгалась его романами, а потому, что художники не смогли достичь полноты выражения.
Эти соображения объясняют снисходительно-покровительственную позицию, занятую Золя по отношению к своим прежним товарищам по оружию. Свои статьи Золя начал с того, что выразил неодобрение отдельным групповым выставкам, которые, по его мнению, принесли пользу только Дега, и присоединился к мнению Мане, что борьба за признание должна вестись в Салоне. Он был рад видеть, что Ренуар первым возвратился в Салон и за ним теперь последовал Моне, хотя они, таким образом, и стали ренегатами. Группы больше не существует, объявлял Золя, но влияние ее можно ощутить везде, даже среди официальных художников. „Все несчастье в том, — заключал он, повторяя доводы Дюранти, — что ни один художник этой группы не сумел реализовать ту новую формулу, элементы которой ощущаются во всех их работах. Эта формула существует, но в бесконечно раздробленном виде. Ни в одном их произведении не видно, чтобы она применялась подлинным мастером. Все они только предшественники. Гений еще не явился. Мы видим их намерения и находим их правильными, но тщетно мы ищем шедевр, в основу которого была бы положена формула… Вот почему борьба импрессионистов еще не достигла цели; они остаются ниже поставленных ими задач, они лепечут, не будучи способными подобрать слова".[530]
Было что-то трагическое в тех недоразумениях, в том непонимании, которые медленно, но верно отрывали бывших друзей друг от друга. Распад группы импрессионистов в дальнейшем был подчеркнут Моне, который в ответ на отклонение одной из его картин жюри Салона устроил в июне 1880 года персональную выставку в „La Vie Moderne" (где в апреле выставлялся Мане). Когда репортер спросил его, не отказался ли он от импрессионизма, Моне ответил:
Ренуар. После обеда. 1879 г. Штеделевский институт. Франкфурт-на-Майне
„Ни в коей мере. Я импрессионист и намерен всегда им оставаться… Но только я очень редко встречаю истинных соратников. Небольшая группа превратилась в банальную школу, которая теперь открывает свои двери каждому встречному пачкуну".[531] Трудно решить, имел ли он в виду Рафаэлли или Гогена, но факт тот, что высказывания Моне, конечно, не могли помочь ему наладить отношения с остальными.
В сложившихся обстоятельствах только два человека остались всей душой преданными общему делу — Писсарро и Кайботт. Но когда в январе 1881 года они начали обсуждать возможность новой групповой выставки, то даже они не могли найти общий язык. Кайботт возмущался тем, что Дега навязывал группе своих друзей, он негодовал по поводу жалких вкладов, которые сам Дега делал в их выставки, и чувствовал себя обиженным той манерой, в какой Дега осуждал Моне и Ренуара за их участие в Салоне. Поэтому он предложил избавиться от Дега и его кружка, надеясь, что это может заставить Моне и Ренуара вернуться к ним. В длинном письме к Писсарро Кайботт объяснял свою позицию:
Мане. Портрет госпожи Гильме. Рисунок. Ок. 1880 г. Эрмитаж. Ленинград
„Что станется с нашими выставками? Вот мое хорошо продуманное мнение: мы должны продолжать, и продолжать только в том направлении, единственном в конце концов художественном направлении, которое всех нас интересует. Я хочу поэтому, чтобы в выставке приняли участие все те, кто по-настоящему заинтересован в нашем деле, а именно — вы, Моне, Ренуар, Сислей, мадемуазель Моризо, мадемуазель Кассат, Сезанн, Гийомен, если хотите Гоген, быть может, Корде и я. Вот и все, поскольку Дега отказывается от выставки на таких условиях. Я бы хотел знать, интересуется ли публика нашими личными спорами? С нашей стороны очень глупо пререкаться из-за пустяков. Дега внес разногласия в нашу среду. Жаль, что у него такой скверный характер. Он проводит свое время, разглагольствуя в „Новых Афинах" или в светском обществе. Лучше бы он немножко больше занимался живописью. Никто не сомневается, что он тысячу раз прав в своих утверждениях, что он говорит о живописи с беспредельным остроумием и здравым смыслом (и разве не это главное в его репутации). Но не менее верно и то, что подлинными аргументами художника являются его картины, и даже если бы он еще в тысячу раз лучше говорил, своими работами он мог бы доказать больше. Теперь он ссылается на свои материальные нужды, но не признает, что они также могут быть у Ренуара и Моне. Но разве он был иным до своих финансовых потерь? Спросите всех, кто его знает, начиная с вас самого. Нет, этот человек озлоблен. Он не занял того высокого положения, которое мог бы занимать по своему таланту, и теперь, хотя он в этом никогда не признается, имеет зуб против всего света.
Ренуар. Девушка за шитьем. 1879 г. Институт искусств. Чикаго