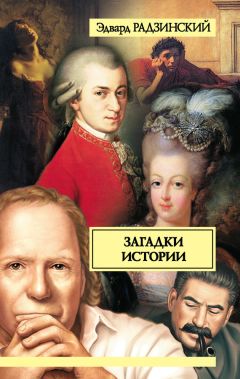– Некому сообщать. Все давно ушли спать…
И, сладко зевнув, ответственнейший товарищ повесил трубку.
Следом за рассказом о любви к светилам небесным очень даже уместно прозвучало:
– О любви к Вождю…
Каждый свой приезд в Ленинград я прихожу в Эрмитаж. Но в последние годы, – может быть, молодость прошла… – но нет во мне там прежнего восторга. Так и в тот мой приезд: заглянул в Эрмитаж, прошелся бессмысленно по знакомым залам, осмотрел какие-то сервизы и вдруг понял – скучно! Все знаю! Все видел!
Время двигалось к закрытию, из залов уже выгоняли, и я прошел на какую-то бесконечную мраморную лестницу, чтобы спуститься вниз и покинуть докучное место. Я вышел к лестнице и остолбенел: все было заполнено матросскими бушлатами, солдатскими шинелями. Люди толпились на лестнице, лежали на ступеньках, курили. И только тут я заметил электрический кабель осветительных приборов и все понял: это была киносъемка. Ждали, когда опустеет Эрмитаж, чтобы в очередной раз штурмовать Зимний.
И тут сверху загудел в микрофон оглушительный хамский голос:
– Не задерживаться, проходить! И только по запасной лестнице! Немедленно!
Почему-то сразу очумев от ужаса, я бросился на боковую лестницу. Она и вывела меня на первый этаж, в странные залы, где доселе я никогда не бывал. В залах этих не было посетителей. В витринах лежали какие-то бусинки, разбитые кувшины. Старушки в форменных одеждах аукались друг с другом: так им было жутко в этой странной пустыне в надвигавшихся зимних сумерках. Наконец я вошел в большой зал, где по стенам висели полуистлевшие ковры. В центре стоял чудовищный сруб. Я подошел к срубу и понял: это погребальная камера. Действительно, это была погребальная камера гуннского вождя из четвертого века до новой эры. А все, что было на стенах, – прежде лежало в погребальной камере: конский череп, золотой убор для лошади, остатки ковра. Сам вождь лежал в следующей крохотной комнате, лежал у самого окна под стеклом. Он был гибельно черен: череп, обтянутый деревянными складками, – тем, что прежде было его кожей, – застыл в оскале. И там, в оскале, виднелся ужасный зуб, и чудовищна была прядь волос, сохранившаяся на черепе, – прядь свалявшихся волос из четвертого века до новой эры. Но самое странное – это было его выражение. Ибо клянусь: череп с деревянной кожей имел выражение. Это точно! Я попытался понять, что оно значило, и наклонился над стеклом, когда услышал голос:
– А вы не боитесь на него смотреть?
Я поднял голову и увидел коротконогое существо без возраста, с идиотской прической и ярко намазанными губами, в форменной одежде смотрительницы зала.
– Ведь присниться ночью может…
– Нет, не боюсь. Мне он даже чем-то нравится.
Что тут с ней случилось! Она вся вспыхнула, зарделась, как девочка, потом сказала, почти прошептала:
– Мне он тоже нравится. И знаете, меня все спрашивают: «Как ты с ним сидишь?» А я в любое место перевестись могу, да не хочу, меня вон в Малахитовый зал даже звали: у меня ведь стаж.
Я молчал, а она все говорила. И хотя мы были одни в зале, говорила почему-то шепотом:
– Вы не поверите, я ведь такая пугливая, всего боюсь. Мышей боюсь. У меня во рту металлические зубы – так я во время грозы рот закрываю. Боюсь! Ведь металл, говорят, притягивает… Что со мною было, когда я сюда попала! Мы с ним вместе сюда поступили: его как раз привезли, а меня на работу приняли. Ну, я и попала к нему, в новый зал. И в слезы, конечно! Мне говорят: месяц поработай – первое место, которое освободится, твое. Села я от него подалее, сижу, глаза поднять боюсь. А народу тут никогда никого. День, помню, был солнечный, солнце в окна бьет. На него. И вдруг меня такое любопытство взяло: я так зажмурилась… и на цыпочках, на цыпочках… и заглядываю к нему. Вижу: под стеклом лежит он и мне улыбается. Я как закричу – и бежать. Бегу коридорами, рыдаю, озноб меня бьет.
Оказалось, в тот день я гриппом заболела. Температура сорок. Лежу в постели. В ту ночь он мне и приснился: дескать, я девушка, молодая да красивая, а он на коне за мной свататься приезжает. Конь богатый, но вместо морды у коня – череп, а сам он весь в золоте – ну, ясное дело – Вождь! Пришла я сюда после болезни, а мне в профкоме говорят: «Держись, Глафира. Скоро из Рубенса, из зала, одна уходит на пенсию». Ну, согласилась я ждать рубенсиху, а сама снова… на цыпочках – шасть к нему! Вижу – лежит он без улыбки, печальный, как сейчас. Строгий. Ну, Вождь! Тут я наклоняюсь над ним, а он… на моих глазах… улыбается! Признал, видать, меня! Через месяц меня к Рубенсу переводят. А ему старуху нашли – глухую да подслеповатую. Не надо, говорю, мне вашего Рубенса, я буду у своего Вождя сидеть. Видать, судьба моя такая… И стала я около него сидеть. Уж восемнадцать лет сижу. И с тех пор каждую ночь он ко мне приходит. Одежда богатая, ничего не скажу. И тело у него белое. А вот лицо такое же. Я сначала все нервничала во сне. А потом привыкла: что ж тут поделаешь – Вождь! А какой он жестокий бывает и злой – ужас! Это когда на него посетители много глядят. Ух, как он посетителей не любит! Я их и пугаю – гоняю, ведь сердится он! И еще он старух не любит. Он любит молодых. Я вот за восемнадцать лет постарела с ним рядом. Он мне недавно так и говорит во сне: «Старая ты стала!» Ну, что ж поделаешь, я давно этого ждала, все думала, как же он уйдет от меня? И знаете, что он придумал: на днях на реставрацию нас закрывают, а меня в другой зал переводят! Ну, конечно, какая я ему пара? У него, говорят, сколько жен было, и все из разных национальностей. И все молодые. Я вам еще что скажу… – Глаза ее заблестели. – Я как-то раз витрину открыла… да и поцеловала его! Так он три дня потом улыбался! Любит он женщин…
Она встала, оглянулась, потом положила руки под витрину. Что-то щелкнуло, и она приподняла крышку.
– Никто не знает, что я ее открываю. Вы подойдите… только не близко, он не любит, когда на него мужчины смотрят.
Жуткое грифельное лицо блестело, и зуб сверкал в усмешке. Да, да, клянусь: он улыбался!
– Чего я с ним ни пережила! – вздохнула она. – Все у нас с ним было… Во вторник на реставрацию закрываемся. Исстрадалась я вся. Хоть бы вторник быстрее! А ему хоть бы хны: вишь, насмехается. Ну, ясное дело – Вождь!
– Что-то мы оригинальничаем, – сказал в темноте бас. – Любовь к математике… к астрономии… к Вождю… декаденты мы все!.. А покойник любил естественное, простое… Как сейчас помню: в туалете Дома литераторов, дыша винным перегаром, он читал мне стихи Исаковского: «Синенький скромный платочек…» А потом и говорит: «Если поймешь, что это гениально, – сразу перестанешь быть декадентом…» К простоте он нас звал. И я вас зову! И предлагаю самое простое – о любви к еде.