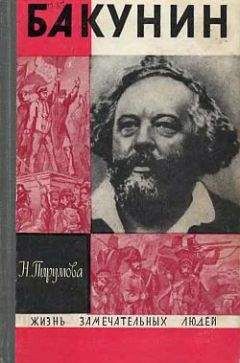Эти слова Герцена были ответом на одно из главных утверждений Бакунина о том, что учить народ «было бы глупо, ибо он сам лучше знает, что ему надо. Его нужно не учить, а бунтовать или, вернее, объединять его разрозненные и потому бесплодные бунты». Не учить народ, а учиться у народа — эту формулу не раз повторял Бакунин. Именно поэтому Герцен в своих «Письмах» несколько раз возвращается к проблеме народа. Задолго до практического и неудачного опыта сближения интеллигенции с народом[411] он видел, что масса с неверием смотрит «на людей, проповедующих аристократию науки и призывающих к оружию».
«Поп и аристократ, полицейский и купец, хозяин и солдат имеют больше связей с массами, чем они. Оттого-то они и полагают возможным начать экономический переворот с tabula rasa, с выжигания дотла всего исторического поля, не догадываясь, что поле это с своими колосьями и плевелами составляет всю непосредственную почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все утешение…»[412]
«Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри». Нельзя отрицать и государства до совершеннолетия большинства, так отвечал Герцен на призыв Бакунина к беспощадному разрушению всего государственного строя, коренному уничтожению всех порядков, общественных сил, средств, вещей и людей, «на которых зиждется крепость империи», отрицанию науки, «которая должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выражение». Здесь Герцен был не точен. Об уничтожении людей речи у Бакунина не было. Но «даже призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения — принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной… Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей… Бойцы за свободу в серьезных поднятиях оружия всегда были святы, как воины Кромвеля, — и оттого сильны».
Революция не должна только разрушать. Новый порядок «должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной». Герцен жалел людей, жалел «вещи, и иные вещи больше иных людей».
«Довольно христианство и исламизм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказнила статуй, картин, памятников, — нам не приходится играть в иконоборцев. Я это так живо чувствовал, стоя с тупой грустью и чуть не со стыдом… перед каким-нибудь кустодом, указывающим на пустую стену, на разбитое изваяние, на выброшенный гроб, повторяя: „Все это истреблено во время революции“.[413]
Итак, революция не должна уничтожать всего лучшего, созданного за много веков человечеством; она не должна быть бунтом бессмысленным и беспощадным, к ней нельзя призывать, пока нет сил, потому что „подавленный взрыв двинет назад“. Нельзя звать массы к полному социальному перевороту потому также, что нет еще положительной программы „идей построяющих“. Ведь одна бакунинская страсть к разрушению не есть еще творческая страсть — так считал Герцен. Вопрос о том, что будет после социального переворота, был главным для него.
Предложенная Бакуниным социальная ликвидация всего старого мира без реальной „построяющей“ программы была не только чужда, но и просто враждебна Герцену.
„Аракчееву, — писал он, — было с полгоря вводить свои военно-экономические утопии, имея за себя секущее войско, секущую полицию, императора, Сенат и Синод, да и то ничего не сделал. А за упразднением государства — откуда брать „экзекуцию“, палачей и пуще фискалов — в них будет огромная потребность. Не начать ли новую жизнь с сохранения специального корпуса жандармов? Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляют вечную необходимость всякого шага вперед?“ Бакунин и не призывал к этому. Его план был еще более утопичен. Вопрос Герцена звучал риторически. Ответа на него он дать не мог.
Свою задачу видел Герцен в пропаганде словом. Он возражал Бакунину и другим, считавшим, что время слова прошло, время дела наступило. „Как будто слово не есть дело? — писал он. Как будто время слова может пройти?“
Расчленение слова с делом возможно лишь тогда, когда все уяснено и понятно и нужно лишь действовать. „Но кто же, кроме наших врагов, готов на бой и силен на дело? Наша сила — в силе мысли, в силе правды, в силе слова, в исторической попутности“.
„Историческую попутность“ Бакунин понимал по-своему. Спор старых товарищей разрешила жизнь. Впрочем, незадолго до смерти Бакунин близко подошел к точке зрения Герцена, но пока он был еще очень далек от нее.
Летом 1869 года, когда Герцен заканчивал свои „Письма к старому товарищу“, а Бакунин писал следующую пропагандистскую брошюру „Наука и насущное революционное дело“, Нечаев появился в Москве.
„Мандат, — пишет Ралли, — данный Бакуниным, а также рекомендация к Любену Каравелову в Бухарест, много послужили Нечаеву. В Москве в особенности этот мандат произвел большое впечатление на Успенского и других“.[414]
Упорно и настойчиво действуя от лица мифического Центрального русского комитета, связанного с Европейским революционным комитетом, он сумел объединить рвущуюся к реальной борьбе молодежь в несколько кружков. Однако иезуитские методы работы: составление взаимных характеристик членов кружка друг на друга, диктаторство Нечаева, наконец, само содержание предлагаемой им программы борьбы — все это не могло надолго удержать в подчинении молодых людей и никак не способствовало созданию той централизованной организации с железной дисциплиной, о которой мечтал Нечаев. Оппозиция к его планам, проявленная студентом Ивановым, кончилась трагически для последнего. Стремясь укрепить свой авторитет диктатора, не допустить ни малейшего отступления от проповедуемых им истин, а также устрашить других членов организации и „связать их кровью“, Нечаев в сообществе с Успенским, Кузнецовым, Прыжовым и Николаевым организовал убийство Иванова.
Опубликованное недавно во французском журнале письмо Г. А. Лопатина к Н. А. Герцен (дочери) от 1 августа 1870 года следующим образом повествует об этом событии: „…Я знал, что У[спенск]ий выманил И[вано]ва в лес под приличным предлогом, и я всегда удивлялся, почему, идя с ним рядом, он не выстрелил ему в висок? Для чего тут понадобилось пять человек? Но теперь мне пишут, что, по рассказам участников, они так растерялись, что забыли, что при них есть оружие, и стали бить И[ванова] камнями и кулаками и душить руками; вообще убийство было самое зверское. Когда Иванов был уже мертв, Нечаев вспомнил о револьвере и для большей уверенности выстрелил трупу в голову“.[415]