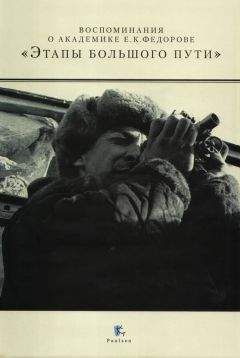Сидел он по обвинению, как он сам сказал — «в каком-то великодержавном шовинизме», и он тут же спросил у меня удивлённо, как будто я могла ответить: — Ну причём тут я — и великодержавный шовинизм?
После всех дикостей допросов, после Гороховой и Шпалерки, где людьми постепенно овладевал ужас и понимание своего полного бессилия — существование в музее казалось ему каким-то прибежищем, каким-то спасением, — якорем, за который он уцепился всем своим существом.
Он страстно любил музей, весь созданный его собственными руками. Он не спал ночами, писал или строгал что-то в своём маленьком мезонинчике наверху, где стояла его железная коечка и где ему разрешено было жить. Он имел пропуск для «вольного хождения» в зоне канала, но почти никогда никуда не ходил, словно боялся хотя бы на минуту оставить своё прибежище, чтобы вдруг… Что же ещё могло случиться «вдруг»?
Мне казалось, что если бы он лишился своего существования в музее, он переживал бы это тяжелее, чем потерю свободы и кафедры в Ленинграде. Ведь это был последний осколок его жизни, последняя иллюзия…
«Карл Маркс» каждый рейс ночевал в Повенце, и пока туристы спали утомленные экскурсиями и впечатлениями, я забегала к Николаю Ивановичу. Постепенно он ко мне привык, радовался моему приходу, ждал «Карла Маркса»…
Со мной на пароходе плавал сынишка Славка, пяти лет. Он обожал музей и дедушку Сидорова, всюду совал свой любопытный нос, и когда Николай Иванович гладил его стриженную головенку, я замечала, как начинает дрожать сухонькая старческая рука, а в потухших невыразительных глазах сверкала какая-то влага…
Он выстругал для Славки чудесный кораблик и выкрасил его масляной краской…
Когда мы познакомились с ним поближе, он попросил меня, когда буду в Москве — узнать, будет ли издана его монография об Игоре Грабаре, которую он закончил незадолго до ареста и сдал в издательство. А я-то думала, что все его интересы — здесь, в музее. Ведь он никогда не рассказывал о «той» прежней жизни…
Когда я вернулась в Москву, я узнала. Конечно, монографию «врага народа» печатать не собирались, рукопись из редакции была изъята, и куда девалась — неизвестно.
Дожил ли Николай Иванович до реабилитации? Вряд ли. Тогда ему было уже далеко за семьдесят…
Когда в 1966-м году — 32 года спустя, мне довелось снова плыть по Беломоро-Балтиийскому каналу, я пыталась узнать — что сталось с музеем — уцелел ли он во время войны? Мне сказали, что сначала он был переведён на Водораздел, потом ещё куда-то, но и там не сохранился…
…Ну, хватит отступлений.
Итак, я снова, через годы, оказалась в Пушсовхозе. Правда, не в самом совхозе, а рядом. Черно-бурых лис и норок, которых здесь теперь развели, заключённые не обслуживали. Лагерь — около двух тысяч человек — занимался, в основном, сельским хозяйством, корчёвкой леса, какими-то мелиоративными работами. Это было подсобное хозяйство Белбалтлага.
Когда нас туда привезли, сначала, как водится, всех отправили на общие работы… Была весна, и в огромных парниках уже рассаживали — «пикировали» — капусту. Работа, вроде бы и пустяковая — высаживать из ящика зеленые росточки в парниковую раму. Но после часа сидения на корточках или стояния на коленях — начинало ломить все тело, спину невозможно было разогнуть, а к вечеру казалось, что никогда в жизни уже не встать на ноги. Но утром мы, хотя и с ломотой во всём теле, снова вставали и снова садились на корточки у парниковых рам… И постепенно боли уменьшались — «везде нужна сноровка, закалка, тренировка…»
Так прошло недели две. Пришла настоящая Карельская весна, пролетели на север журавлиные стаи. Теперь по вечерам всё же хватало сил хотя бы перемолвиться словом с соседкой по нарам.
Такой соседкой Бог послал мне Екатерину Михайловну Оболенскую — вдову расстрелянного академика и кремлёвского работника Оболенского-Осинского. Но подружиться с ней всерьёз мне довелось уже позже — в Центральной больнице Соликамского лагеря. Здесь же она тоже работала в лазарете, уставала зверски, и до этапа на восток мы даже и познакомиться друг с другом как следует не успели.
Здесь же, в Пушсовхозе, я познакомилась с немецкой коммунисткой Гизэлью, перебежавшей в Советский Союз. Она уже кончала свой десятилетний срок, полученный за это, и со дня на день ждала вызова на освобождение. Была она полна радужных надежд, потому что был сын, которого она мальчуганом прихватила с собой, когда переходила границу.
Петрик вырос в детском доме, теперь уже студент, и конечно, они вдвоём не пропадут! И в конце концов, она же добьётся пересмотра своего дела…
Но, забегая вперед на следующие восемь лет, я не могу не рассказать о печальной и страшной судьбе Гизэли.
В 1949 году всех бывших лагерников с десятилетними сроками и страшными статьями — а у нее была 58–1 — «шпионаж» — начали арестовывать вновь…
Гизэль тогда жила в том же Боровске, под Соликамском, где и я. Вместе с сыном ей устроиться не удалось — ведь у нее был такой же «волчий паспорт», как и у всех освобождённых лагерников с 58-й статьёй: 100 км. от Москвы, Лениграда и других больших городов. Но сын приезжал на каникулы, а Гизэль работала изо всех сил (она была каким-то счётным работником в бухгалтерии Бумкомбината), чтобы послать лишнюю копейку своему Петрику.
Увы, бедная Гизэль не дождалась ни пересмотра, ни реабилитации…
Когда начали забирать бывших лагерников — сегодня прокашивали одну улицу, завтра другую — нервы Гизэли не выдержали: она насыпала в карманы земли и камней, и так, в худеньком своем пальтишке, ушла в Камскую воду…
Дома оставила записку: «Второй раз не могу — нет больше сил… И не хочу портить карьеру сыну. Чем иметь репрессированную мать — уж лучше никакой». В то время её очень можно было понять… И все же… Ведь оставалось перетерпеть всего 5 лет!.. Только никто этого тогда не знал!..
А ведь была она лет сорока с небольшим, не старше. Умница, тонкий человек, и образованный, хотя и родилась в семье бедного сапожника… Нигде не училась, но занималась самообразованием и массу читала.
Меня привезли в Пушсовхоз как раз накануне освобождения Гизэли. Ее уже вызывали в III-ю часть, и велели срочно подготавливать себе замену — речь шла о ее работе, иначе грозились в срок не отпустить.
Гизэль оглянулась кругом, и взгляд ее остановился на мне.
Уж хуже и ошибочней выбора она сделать не могла! Но в то время, когда у меня спина разламывалась от этой проклятой «пикировки», ее предложение, воспринятое мною так легкомысленно, показалось мне спасением, и я ухватилась за него с радостью, тем более, что в руках Гизэли всё выглядело так просто и легко.