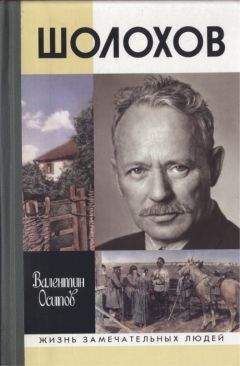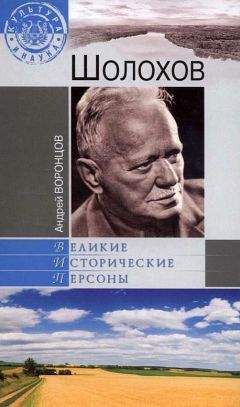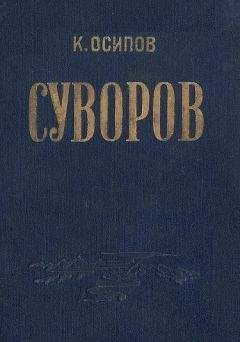Шолохов напомнил Сталину и его окружению, как не надо с народом и как бы надо.
Человек с характером. И никакой осмотрительности…
Декабрь. Корреспондент «Комсомольской правды» Анатолий Калинин напросился в Вёшки. Шолохов весь погружен в роман, но узнал, что журналист земляк-дончак, родом с хутора Пухляковский, потому не только дал согласие на встречу, но и во многом приоткрылся новому знакомцу.
Однако далеко не все появилось после беседы в газете.
…Шла война с Финляндией. Газетчик не случайно внес в блокнот: «С заснеженного лютой зимой Карельского перешейка мой путь военного корреспондента лег в заснеженную не менее лютой, хотя и мирной зимой Вёшенскую. За окном кабинета Шолохова классический мирный пейзаж: подернутый голубоватым ледком Дон, опушенные снегом лес и степь. А как сам Шолохов чувствовал себя в окружении этого идиллического пейзажа? Долетало ли до него дыхание разворачивающихся под Ленинградом кровавых событий?»
Шолохову интересно узнать от военного журналиста — какова она, эта война? Радио и газеты сообщали только одно, что война идет успешно; уже и правительство для будущей социалистической Финляндии сформировано из политэмигрантов. На самом деле на первом этапе она оказалась провальной для Красной Армии, а потому позорной для Кремля.
На гостя обрушилась куча жадных вопросов. Калинин внес в блокнот наиважное: «Ему изменила сдержанность. Помрачнел… заключил: „Да, драка будет большая. Нельзя недооценивать белофиннов“».
Потом газетчик, окончательно войдя в доверие, разузнал, как завершается «Тихий Дон»: «Работал Шолохов тогда особенно упорно. В те дни, когда дописывались последние главы, он получал много писем. Читатели волновались. „Оставьте Григория в живых!“ — настаивал один. „Григорий должен жить!“ — требовал другой. „Ведь, правда, он будет с красными?“ — спрашивал третий».
Шолохов спросил журналиста: «Всем хочется легкого конца, а что, если он будет пасмурным?» Калинин: «Я не смог удержать вздоха: „А все же?“»
Этот краткий вопрос вызвал целый монолог о праве писателя быть независимым: «Могу только сказать, что конец „Тихого Дона“ вызовет разноречивые суждения… Писатель должен уметь говорить правду, как бы ни была она горька… К оценке литературного произведения в первую очередь нужно подходить с точки зрения правдивости».
В записках корреспондента отразились и взаимоотношения Шолохова с земляками: «На самом раннем рассвете в калитку к Шолохову постучит кнутовищем подводчица с хутора Максаева: „Михаил Александрович, выдь-ка на час, тут мне одну чудную квитанцию принесли на налог…“»
А. В. Калинин в 1950-х годах станет заметным писателем, затем соавтором киносценариев по своим романам. Немало нового и ценного напишет о Шолохове, с кем крепко сдружится.
Вообще Шолохов умел дружить. Сколько, к примеру, скупой по-мужски нежности в письме Астаховым, хотя после знакомства в Германии прошло уже столько времени: «Дорогие Астаховы! Рады были получить от вас весточку. Жалко одно, что редко вы нас вспоминаете. Как говорится, от случая к случаю. Ну, да ничего, при встречах сочтемся! В Москве буду в ноябре. Застану ли вас там в это время? Пожалуйста, напишите, да поскорее. Очень хотел бы вас повидать. Шлем приветы и добрые пожелания. М. Шолохов. 24.10.1939».
В Москве требовали, чтобы он чаще бывал в столице. В августе оргбюро ЦК осудило редакцию панферовского «Октября», а Шолохов здесь все еще член редколлегии. Выдвигались странные для ортодоксального главного редактора обвинения: «Гнилой либерализм… Своеобразная арцыбашевщина… Буржуазные взгляды…» Как бы то ни было, но это и по вёшенцу удар: «Редакционные коллегии не выполняют своих обязанностей и по существу нередко превращаются в пустую вывеску… Тов. Шолохов числится…» Весь этот шум вызвало стихотворение Ильи Сельвинского «Монолог критика — диверсанта ИКС».
Напомню, что Шолохов давно уже требовал своего увольнения из редколлегии этого журнала.
…Лето, осень, зима. Что бы там ни происходило в высших политических сферах, а шолоховский гений, то терзаясь, то ликуя, ведет Григория Мелехова к последней странице романа.
Исповедует: «Не может быть художник холодным, когда он творит! С рыбьей кровью и лежачим от ожирения сердцем настоящего произведения не создашь и никогда не найдешь путей к сердцу читателя. Я за то, чтобы у писателя клокотала горячая кровь, когда он пишет, я за то, чтобы лицо его белело от сдерживаемой ненависти к врагу, когда он пишет о нем, и чтобы писатель смеялся и плакал вместе с героем, которого он любит и который ему дорог».
Наконец дописана последняя глава. Точку поставил на рассвете, пожалуй, все-таки ночью. Почему-то бросились в глаза часы — было четыре утра.
Как тихо в доме. Какая тишина за окнами.
Как-то признался, что в ту минуту у него вырвалось: «Что же ты наделал, Миша?!»
Мария Петровна стала свидетелем поистине исторического события — потом рассказывала:
«Я на рассвете проснулась и слышу, что-то в кабинете Михаила Александровича не ладно. Свет горит, а уже светло… Я прошла в кабинет и вижу: он стоит у окна, сильно плачет, вздрагивает… Я подошла к нему, обняла, говорю: „Миша, что ты?.. Успокойся…“ А он отвернулся от окна, показал на письменный стол и, сквозь слезы, сказал: „Я закончил…“
Я подошла к столу и перечитала последнюю страницу:
„Григорий подошел к спуску, — задыхаясь, хрипло окликнул сына:
— Мишенька!.. Сынок!..
Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром“».
Всего несколько строк, а будто целая новелла: мечтал страстотерпец о немногом, но не сузился мир. Он оставался огромным рядом с сыном, вот только сияющее солнце — холодно.
В тот же день Шолохов попросил жену вызвать машинистку. И потянулась тягостная для нетерпеливого писательского сердца неделя-другая ожидания. Потом последние прикосновения пера к перепечатанной набело рукописи…
Дополнение. Шолохов по-прежнему требователен при саморедактуре. Остались от нее следы в черновиках. Иной раз фразы несколько вариантов, а иной раз — вычеркнет или впишет одно только слово.
В одной из глав отшлифовывал даже в мелочах взрывчатый для предвоенного времени спор-разговор между сестрою Мелехова и Кошевым, ныне ее мужем, благоверным, ведь даже венчались. И вот раскол — политический.
В черновике шло: «Дуняшка, накрывая на стол, спросила: